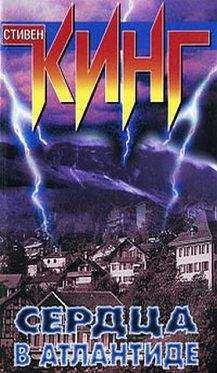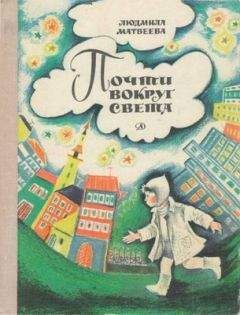Филип Рот - Призрак уходит
Мне нужно было выбрать стратегию и, придерживаясь ее, идти дальше — а как же иначе? — и, к худу или к добру, ошибочно или нет, я избрал для себя второй путь, слабо надеясь, что он меньше повредит возможности достойно двигаться вперед, к закату моего таланта. А ведь все это было до нынешнего обострения борьбы, до точки деградации, где ты уже полностью беззащитен, до невозможности не только вспомнить через два-три дня детали написанной прежде главы, но — совершенно невероятно! — до невозможности буквально через несколько минут воскресить в памяти написанное на предыдущей странице.
К тому моменту, когда я поехал в Нью-Йорк и обратился за медицинской помощью, подтекало уже не только из пениса, нарушение функций касалось не одного только сфинктера мочевого пузыря, и трудно было надеяться, что кризис, поджидавший меня за следующим поворотом, ограничится только изъянами чисто телесного свойства. На этот раз речь шла о моем сознании, и сигнал подали заблаговременно, хотя — насколько я мог судить — времени оставалось совсем немного.)
Я извинился перед Тони и, не поужинав, вернулся к себе в отель. Однако и в моей комнате листка с номером Эми не обнаружилось. Я был уверен, что выдрал его из блокнота, лежавшего на ночном столике, но его не было ни там, ни на кровати, ни на крышке бюро, ни даже на ковре, который я ощупал, ползая на коленях. Заглянул под кровать, но там его тоже не нашел. Проверил карманы одежды, включая ту. что ни разу не надевал. Тщательно прочесал весь номер, изыскивая места, где он мог оказаться, осмотрел мини-бар и только после этого догадался открыть бумажник, где листок и лежал — лежал все это время. Я не забыл взять его к Пьерлуиджи, я забыл, что взял его.
Маячок на моем телефонном аппарате мигал, и я снял трубку, предполагая услышать новое, более длинное сообщение от Эми. Но это был Билли Давидофф, звонивший из моего дома. «Натан Цукерман, дом чудесный. Маленький, но подходит нам идеально. Я сделал несколько фотографий — надеюсь, вы не против? Джейми придет в восторг от дома, пруда, от пустоши через дорогу — ну, словом, от всего. И Роб Мэйси просто находка. Давайте как можно скорее покончим с формальностями. Мы готовы подписать все, что необходимо. Я узнал, что Роб собирается отвезти ваши вещи, как только вы въедете, но, если хотите получить что-то скорее, я могу прихватить это сегодня вечером. На случай, если вы соберетесь позвонить: я буду тут еще час. Поговорим позднее. И большое спасибо. Возможность пожить здесь будет очень полезна».
Конечно, он хочет сказать, она будет полезна для Джейми. Все для Джейми. Такая преданность, и так приятно в ней растворяться! Чего хочет Билли? Того же, что Джейми. Что радует Билли? То же, что радует Джейми. Чем он всецело поглощен? Джейми, и только Джейми, восхитительной Джейми. Если это безмерное поклонение непостижимым образом не утеряет власти, они будут счастливейшей парой. Но если наступит день и она раздраженно отторгнет это интимное служение, лишит его своих милостей, охладеет к его порывам, горе несчастному, чувствительному, нежному Билли! Он всегда будет вспоминать ее по сто раз на день. Она затмит и уничтожит всех своих преемниц. Он будет думать о ней до смерти. Он будет думать о ней, умирая.
Половина девятого. Если Билли пробудет там еще час, то не появится на Семьдесят первой Западной примерно до двенадцати. Я могу позвонить ей под предлогом переговоров о сроках обмена, который теперь мне уже совершенно не нужен. Могу позвонить без предлога и просто сказать: «Я хочу к вам прийти. Не видеть вас невыносимо». До полуночи эта женщина, рядом с которой я оказывался трижды, и все три раза мимолетно, будет сидеть одна, с кошками. Или и с кошками, и с Климаном.
Кончай мазохистский эксперимент! Садись в машину и уезжай. Твоя великая экспедиция завершена.
Было еще второе сообщение — от Климана. Он спрашивал, не помогу ли я ему с Эми Беллет. Перед операцией она надавала ему обещаний, а теперь отказывается их выполнить. У него на руках экземпляр первой части рукописи романа Лоноффа, и кому будет лучше, если он так и не ознакомится с окончанием, хотя два месяца назад она уверяла, что даст его. Она дала ему тогда семейные фотографии Лоноффов. Она дала свое благословение. «Мистер Цукерман, если это возможно, пожалуйста, помогите. Она ужасно изменилась. Это из-за операции. Из-за того, что они удалили, из-за всех нежелательных последствий. У нее был здравый ум, а теперь его не осталось. Но, может, вас она послушается».
Климан? Нет, это просто невероятно. От вас воняет! Вы смердите. А теперь он звонит и, даже не извинившись, просит о помощи? После того как я пообещал приложить все усилия, чтобы расстроить его планы? Что это — смелость авантюриста, полная бестолковость или умение присосаться к человеку, которого ни за что нельзя отпустить? Он из тех, от кого не отделаться самым грубым отпором. Поступай так, как знаешь, а они все равно не откажутся от попыток вытянуть то, что им нужно. И что бы они ни сделали, какие бы жуткие вещи ни говорили, все равно держатся так, что никто и не догадается, что они перешли пределы допустимого. Крупный, полный жизненных сил самец, уверенный в своей мужской неотразимости, готовый без боязни оскорблять, а потом возвращаться как ни в чем не бывало.
Или мы разговаривали еще раз, а я забыл? Но когда? «Может, она вас послушается». Почему он считает, что Эми Беллет прислушается к моим словам, если знает, что мы встречались только однажды? Да и знает ли он о той встрече? Откуда Климану знать, что мы встречались? Разве что я сказал ему это сам. Или она сказала. Должно быть, сказала — должно быть, сказала ему и это!
Глянув на номер Эми, я набрал его. Когда она ответила, повторил почти то, что хотел сказать Джейми Логан:
— Мне надо прийти к тебе. Прийти прямо сейчас.
— Откуда ты звонишь? — спросила она.
— Прости, я перепутал ресторан. Скажи мне, где ты живешь. Мне надо поговорить с тобой.
— Я живу в жутком месте, — сказала она.
— Пожалуйста, дай мне адрес.
Она дала, и, сев в такси, я доехал до ее дома на Первой авеню, потому что мне требовалось узнать, правда ли то, что Климан говорил о Лоноффе. Почему требовалось — не спрашивайте. Я этого не знал. Но нелепость расспросов не останавливала. Никакая нелепость не останавливала. Стареющий человек, чьи битвы давно отгремели, неожиданно ощущает потребность… в чем? Разве ему недостаточно, что вокруг снова полыхают страсти? Разве ему недостаточно, что вокруг столько неразгаданного? Неужели ему опять хочется перемен?
Место было совсем не таким ужасным, как мне представлялось, пока я ехал, хотя вряд ли можно назвать справедливым, что такая женщина, спутница жизни, вдова блистательного писателя, вынуждена считать это здание своим домом. Внизу, на первом этаже, заведение, где едят спагетти, рядом — ирландский бар. Входная дверь не запирается, внутренняя ведет на лестницу и не запирается тоже. Искореженные железные баки для мусора втиснуты в темный закуток под первым лестничным пролетом. Нажав кнопку ее звонка — возле блока почтовых ящиков, — я обратил внимание, что один ящик без замка и дверца с прорезью заметно приоткрыта. Я невольно засомневался, работает ли звонок, и удивился, когда сверху прозвучал голос окликающей меня Эми: «Шагай осторожно. Ступеньки паршивые».
Несколько ввинченных в потолок голых лампочек вполне прилично освещали лестницу, но площадки, на которые выходили двери, тонули в темноте. Запах, которым все было пропитано, мог принадлежать кошачьей или крысиной моче, а то и комбинации обеих.
Она ждала на площадке третьего этажа, и прежде всего я увидел полуобритую голову и хвостик седых волос старой женщины, казавшейся теперь, в задуманном как веселенькое, длинном, бесформенном платье лимонно-желтого цвета, еще страшнее, чем в больничном халате, приспособленном ею для выходов на улицу. Но она, кажется, совсем не думала о своей внешности, а детски радовалась моему приходу. Здороваясь, она протянула мне руту, но я, неожиданно для себя, наклонился, чтобы поцеловать ее в обе щеки — удовольствие, за которое многое отдал бы в 1956-м. Эти внезапные поцелуи были из области нереального, но самым нереальным было то, что, несмотря на опровержения органов чувств, она была той, прежней, а не обманщицей, назвавшейся ее именем.
То, что она уцелела во всех тяжелых испытаниях и мы увиделись в этой гнетущей обстановке, было просто невероятным и создавало иллюзию, будто бы именно встреча с ней и прояснение смысла мимолетного знакомства с молодой женщиной, так поразившей меня почти пятьдесят лет назад, послужили той неведомой мне причиной, что сначала заставила меня отправиться в Нью-Йорк, а затем неожиданно побудила остаться в городе. Новая встреча после такого долгого времени, после того, как оба мы столкнулись с онкологией, а наш мозг, некогда живой и юный, стал плохо пригодным к употреблению, — все это было причиной того, что я теперь едва сдерживал дрожь, а она сочла нужным надеть это платье, которое было, возможно, модным полвека назад. Мы оба нуждались во встрече с видением прошлого. Время — сила и власть прошедшего — и это старое желтое платье на ее исхудалом, беспомощном теле, отмеченном смертью! А что, если б я, повернувшись, увидел, как следом за мной поднимается Лонофф? Что я сказал бы? Я все еще восхищаюсь вами? Я только что перечел ваши книги? По сравнению с вами я по-прежнему зеленый юнец?