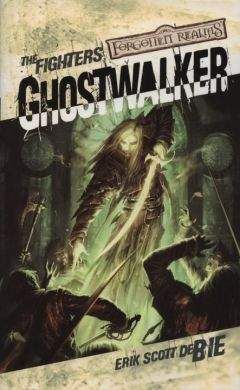Мишель Турнье - Метеоры
Святой Дух — ветер, буря, дуновение, у него метеорологическое тело. Метеоры священны. Наука, претендующая на то, что она исчерпала их анализ и замкнула их в рамки законов, — сама лишь богохульство и насмешка. «Ветер дует, где хочет, и ты слышишь его голос, но не знаешь ни откуда он пришел, ни куда идет», — говорит Иисус Никодиму. Вот почему метеорология обречена на неудачу. Ее предсказания смехотворны и постоянно опровергаются фактами, потому что они представляют собой покушение на свободу выбора Духа. Не нужно удивляться такой санктификации Метеоров, к которой я призываю. На самом деле священно все. Желать вычленить среди вещей область низкую и материальную, над которой парил бы священный мир, — просто признаться в некоторой слепоте и очертить ее границы. Математическое небо астрономов священно, потому что это обитель Отца. Земля людей священна, потому что это обитель Сына. Между первой и второй — смутное и непредсказуемое небо метеорологии являет собой обитель Духа и связует отеческое небо и сыновнюю землю. Это живая и шумная сфера, которая обертывает землю, как муфта, полная влаги и вихревых потоков, и эта муфта — разум, семя и слово.
Он семя, потому что без Него ничто не произрастало бы на земле. Еврейское Сошествие Святого Духа, отмечаемое через пятьдесят дней после Пасхи, как раз было кануном праздника жатвы и подношения первого снопа. Даже женщины нуждаются в его влаге, чтобы зачать, и архангел Гавриил, возвещающий Марии о рождении Иисуса, говорит ей: «Дух Святой найдет на Тебя и сила Всевышнего осенит Тебя».
Он слово и грозовая тропосфера, которой Он окутывает землю, на самом деле — логосфера. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились; И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им <…> Собрался народ и пришел в смятение; ибо каждый слышал их, говорящих его наречием» (Деян. апостолов, II, 2–6). Когда проповедовал сам Христос, отзвук его слов был ограничен в пространстве, и только толпы, говорившие на арамейском, понимали его. Начиная с этого момента, апостолы рассеиваются до самых границ земли, становятся кочевниками, и их язык внятен всем. Потому что язык, на котором они говорят, — язык глубинный, полновесный, это божественный логос, слова которого — семя вещей. Эти слова — вещи в себе, сами вещи, а не их более или менее частичное и лживое отражение, каким являются слова человеческого языка. И поскольку этот логос отражает общий фонд отдельного существа и всего человечества, то люди всех стран понимают его немедленно, но, заблуждаясь в силу привычки и невнимания, они думают, что слышат свой собственный язык. Но апостолы говорят не на всех языках мира, а на одном языке, на котором не говорит больше никто, хотя все его понимают. Таким образом, они обращаются к каждому варвару с тем, что есть в нем божественного. И на том же языке говорил архангел Благовещения, чьих слов достало, чтобы Мария понесла.
Я солгал бы, утверждая, что владею этим языком. Последовавшее за Пятидесятницей — трагическая тайна. Вместо параклитического логоса, сам святой отец изъясняется на церковной латыни, о высшая насмешка! По крайней мере, в Параклите меня научили придавать более широкий и глубокий смысл испепелявшей меня страсти. Я перенес эту разрозненность, отсутствие близнеца, переживаемую как ампутацию, на Иисуса — и это было резонно, то был самый мудрый путь, который я мог выбрать, несмотря на его явное безумие. Иисус есть всегда ответ, кажущийся самым безумным, — на самом деле самый мудрый — на все вопросы, которыми мы задаемся. Но не стоило оставаться пленником тела Распятого. Именно отцу Теодору выпала роль бросить меня в эту пучину Святого Духа. Огненный ветер Параклита опустошил и озарил мне сердце. Все, пребывавшее во мне пленником тела Христова, взорвалось и распространилось до пределов земли. Суть жизни, которую я находил лишь в Иисусе, открылась мне в каждом из живущих. Моя дидимия стала всеобщей. Непарный близнец умер, и на его месте родился брат человека. Но прохождение через братство Христово обременило мое сердце верностью, а взгляд — пониманием, которого, я полагаю, без этого испытания они были бы лишены. Я сказал тебе, что евреи, видимо, смогли бы пройти прямо от Ruah Ветхого Завета до светоносного дыхания Духа Пятидесятницы. Возможно, некоторые чудесные раввины, учение которых выходит далеко за пределы Израиля, чтобы достичь всемирного значения, достигли этого наивысшего обращения. Но не пройдя эру Сына, они всегда будут испытывать недостаток доли цвета, тепла и боли. Замечательно, например, что дух обнаруживает полную тщету фигуративности — в виде живописи, графики или скульптуры. Это отсутствие физиономии у духовного порыва хорошо сочетается с проклятием, которое Моисеев закон накладывает на представление живых существ в виде изображения. Но как не увидеть огромное обогащение, которое представляют собой для веры иконы, витражи, статуи, сами соборы, изобилующие произведениями искусства? Но ведь эта гениальная поросль, проклятая Ветхим Заветом и бесплодная в свете Завета Третьего — Завета Святого Духа, Деяний апостолов, — черпает все свои семенные соки, и особенно климат, в котором она нуждается, в Завете Сына.
Я остаюсь христианином, будучи безгранично обращенным в веру Святого Духа, жажду, чтобы святое дыхание веяло по дальним горизонтам, предварительно обогатившись семенем и влагой, пройдя сквозь тело Возлюбленного. Дух, прежде чем обратиться в свет, должен стать теплом. Тогда он достигнет высшей степени сияния и проникновения.
ГЛАВА VI
Парнобратья
Поль
Кергистов ялик обнаружили уже назавтра, в первых лучах дня, — он разбился о волнорез. Тела трех девочек-даунов и тело Франца были найдены на пляжах островов через неделю. Остальные пять девочек исчезли без следа. Дело вызвало глубокое волнение в Звенящих Камнях, но пресса о нем едва упомянула, и наскоро проведенное расследование привело к быстрому закрытию дела. Если бы речь шла о нормальных детях, какие бы крики поднялись по всей Франции! Но в случае умственно отсталых, этих человеческих отбросов, которым поддерживают жизнь ценой огромных расходов, в силу маниакальной совестливости… Несчастье такого рода, по сути, разве не благо? В свое время этот контраст между размахом драмы, которую мы прожили час за часом, и равнодушием, с которым его встретили вне нашего маленького сообщества, естественно, ускользнул от меня. Но позже, оглядываясь назад, я осознал его и тем самым укрепился в мысли, что мы образовывали — близнецы, но так же и блаженные и, расширительно, все население Звенящих Камней — особое племя, подчиняющееся иным законам, отличным от людских, и потому мы внушали опасение, презрение и ненависть. Будущее не опровергло это ощущение.
А пока глубокое и молчаливое сообщничество Жан-Поля с Францем (и через него — с шестидесятые блаженными Святой Бригитты) полностью не объяснялось ни возрастом, ни географической близостью. То, что мы с братом-близнецом — монстры, — истина, которую мне удалось долго от себя скрывать, но подспудно ощущал ее с самого раннего возраста. После многолетних опытов и чтения исследований и трудов по данной теме, эта истина озаряет мою жизнь светом, которого бы двадцать лет назад я стыдился, десять лет назад — гордился, теперь же я смотрю на нее хладнокровно.
Нет, человек не создан для близнецовости. И как всегда в подобных случаях — я хочу сказать, когда сходишь с рельсов заурядности (такова же была констатация дяди Александра касательно его гомосексуальности), — высшая сила может поднять вас на сверхчеловеческий уровень, но заурядные способности низринут на дно. Детская смертность у разнояйцевых близнецов выше, чем у детей-одиночек, и у двойняшек выше, чем у разнояйцевых близнецов. Рост, вес, продолжительность жизни и даже шансы на жизненный успех у одиночек выше, чем у двойственных экземпляров.
Но всегда ли можно с уверенностью отличить настоящих и ложных близнецов? Научные труды категоричны: нет абсолютных доказательств настоящей близнецовости. Можно разве что исходить из внешнего отсутствия различий, объясняющих близнецовость. По моему мнению, близнецовость настоящая — дело убежденности, — убежденности такой, что она способна выковать две судьбы, и когда я оглядываюсь в прошлое, то не могу сомневаться в невидимом, но всемогущем присутствии этого фактора, так что я даже спрашиваю себя: а вдруг — за исключением мифологических пар вроде Кастора и Поллюкса, Ромула и Рема и т. д. — мы с Жаном единственные настоящие близнецы, когда-либо жившие на земле?
Что Жан-Поль монстр — косвенно доказывалось тем, что мы про себя называли «цирком». Это была грустная забава, повторявшаяся с каждым посетителем, начиналась она удивленными восклицаниями, вызванными нашим сходством, и продолжалась игрой сравнений, подмен, путаниц. На самом деле единственным человеком в мире, кто мог нас различить, была Мария-Барбара. Но только не тогда, когда мы спали, — призналась она нам, потому что тогда сон стирал все наши различия, как прилив смывает следы, оставленные детьми вечером на песке. Для Эдуарда полагалось разыгрывать маленькую комедию, — по крайней мере, так я трактую сегодня его поведение, потому что в то время оно нас ранило, мучило, и мы бы употребили гораздо более суровое слово — ложь, обман, — если бы решились говорить об этом тогда. Эдуард никогда не был способен различить нас и никогда не пожелал в этом признаться. Однажды он решил — полусерьезно, полушутя, — «что каждому достанется по близнецу. Вы, Мария-Барбара, берете Жана, раз уж он ваш любимчик. Я выбираю Поля». Но любимчиком Марии-Барбары был я, и в тот момент мама держала меня на руках, — а Жана, изумленного и все же полуобиженного, Эдуард как раз поднял с земли и нарочито стал утаскивать с собой. С тех пор так и повелось, и каждый раз, когда один из нас оказывался у него под рукой, Эдуард без разбору хватал его, называл «своим» близнецом, своим любимчиком, начинал вертеть, сажал на плечи или возился с ним. Ситуация могла бы всех устроить, поскольку каждый из нас, таким образом, по очереди оказывался его «любимчиком», но, хотя он предусмотрительно решил не называть нас по именам, а говорил Жан-Поль, как все, — в его забаве был обман, больно задевавший нас за живое. Конечно, блеф становился особенно неприятным в присутствии какого-нибудь посетителя. Потому что тогда он демонстрировал свое мнимое знание с категорической уверенностью, нагружая постороннего свидетеля, совершенно сбитого с толку, доводами, которые через один были фальшивы. Ни Мария-Барбара, ни Жан-Поль не осмелились бы в такой момент его разоблачить, но наше смятение, должно быть, было заметно.