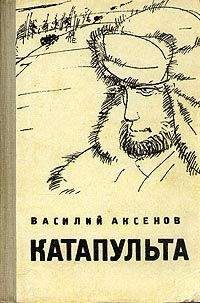Василий Аксенов - Третья мировая Баси Соломоновны
— Ведь я же еврей. Я еврейскому Богу помолился, призвал его на помощь. И он мне ответил. Он — мне — персонально — ответил. Это факт! Факт! Понимаете? А вы — на каком языке, да с какой молитвой. Как помнил, так и обратился. Куда ж мне теперь? В церковь? В райком? В милицию?
Старики зашикали, запричитали. Не надо, мол, ни в райком, ни в милицию, они соберут умных людей, посоветуются и пригласят Самуила Яковлевича.
Самуил Яковлевич оставил адрес. Скомкал платок и так, с платком в кулаке, прошагал до самой фабрики — на Пресню. Даже на трамвай не сел.
Поздно ночью вернулся домой. Света не зажигал — светомаскировка. Лег на диван, не раздеваясь.
Пролежал до утра, не сомкнув глаз.
Потом заснул. Проснулся через час. Будто заново родился.
Подошел к столу, там газета «Правда» вчерашняя, нечитаная.
Прочитал заглавие передовицы: «Советский тыл — могучая опора фронта». Еще больше почему-то обрадовался и поспешил на работу, потому что в военное суровое время опаздывать никак нельзя.
Теперь про это удивительное место, где все произошло.
Никакого памятного знака там нет.
В 1976 году несколько домов в Шведском тупике снесли, в том числе и тот, шестиэтажный, — возвели новое здание МХАТа. И кстати, на этом месте дела у театра не пошли.
Евгений Шкловский
ВЕКТОР
О том, что постоянно задевали и толкали в транспорте и на улице, как бы случайно, но явно не случайно, наступали на ногу или заезжали локтем под ребро, причем так точно, аж в глазах темнело, — об этом что и говорить? Обычное явление. Привычное дело.
Грузенберг старался не обращать внимания, демократично полагая, что теперь всем не сладко, всем достается, даже и промеж ребер, и по ногам, и куда угодно, потому что жизнь такая пошла — трудная (а когда легкая?), и она, то есть жизнь, всех достает, не только его одного. Конечно, своя рубашка ближе к телу и если тебе больно, то больно именно тебе, но если всем больно, то и боль как бы не такая острая, и не так обидно, и даже не так безнадежно.
Однако реальности надо смотреть в лицо. Одно дело, когда тебя просто и как бы случайно (допустим) толкают, другое — когда кулаком по скуле или, еще хуже, в глаз, когда сначала толкают, а потом упавшего пинают или еще что-нибудь в этом роде. И уж тем более когда действия сопровождаются малоприятными репликами вроде «Убирайся в свой Израиль!» или попросту «жид пархатый». От этих реплик, не оставлявших никакой надежды, было еще хуже, чем от действий. Если без них, то опять же возможно с каждым, и тоже вроде не так обидно. С ними же — упор. Тут уж только с ним, с Грузенбергом, и он, как это ни печально, все острее ощущал, что именно с ним, а самое главное и тревожное, что все ближе к его дому — сначала на автобусной остановке, потом во дворе, затем рядом с подъездом, наконец, прямо в подъезде, прямо на лестничной площадке, и не кулаком, а пустой бутылкой, что, понятно, ничуть не лучше, а даже хуже, и вообще могло закончиться плачевно. Короче, происходило все ближе и ближе к дверям квартиры — вектор обозначился…
Дело в том, что Грузенберг был, что называется, типичный. Черноволосый, с уже солидными залысинами на лбу и просвечивающейся макушкой, и, разумеется, с носом, очень крупным и с внушительной горбинкой, с глазами чуть навыкате под тяжелыми веками. С темно-карими типичными глазами, причем еще и близорукими. В общем, сразу видно. Без всяких сомнений даже для непосвященного. Бывают такие: не захочешь, а узнаешь. Просто удивительно: русский — русский, француз — француз, грузин — грузин, все нормально, а тут?.. А, еврей! Странное, непонятное такое «а!», словно вдруг что-то вспомнил, неприятное, или нашел наконец, что искал, с некоторым отчасти мстительным чувством удовлетворения. Вроде как прятался, но тебя нашли и разоблачили, хотя вовсе и не прятался, а был как русский или грузин, но только еврей.
Грузенберг и был таким, что, естественно, не оставалось без внимания. Евреем-которого-как-шила-в-мешке-не-утаишь. Особенно там, где было много раздраженных людей, в транспорте опять же или в очереди за хлебом или за молоком. Типичность Грузенберга оказывалась своего рода дополнительным раздражителем, как если бы он по нахалке втиснулся без очереди, а не выстоял так же безропотно и терпеливо, что и другие.
Надо заметить, что Грузенберг хоть и еврей, но вынужден был, как и многие, ездить в общественном транспорте и бегать с высунутым языком и запаленным дыханием по магазинам. Он, может, и пренебрег бы, довольствуясь малым, — лишь бы избежать, а главное, не дразнить и без того взбудораженных, легко воспламеняющихся людей, но у него тоже были дети, причем трое (безумный!), причем очаровательные и, кстати, на него совершенно не похожие. А их, понятно, нужно было кормить и поить, так что хочешь не хочешь, а приходилось. Это можно сформулировать так: Грузенберг жил на вполне общих основаниях, но отнюдь с необщим, мягко говоря, выражением лица, за что ему и приходилось претерпевать не только общее, но и отдельное. Самое же тревожное заключалось в том, что это отдельное все ближе и ближе придвигалось к его квартире, тоже отдельной, где он проживал с женой и детьми, а значит, по вполне логичному умозаключению, угрожало перекинуться и на них, чего бы Грузенбергу, понятно, категорически не хотелось.
Да и несправедливо! Ладно сам Грузенберг, типичный, как уже было сказано, и ничего тут не поделать, но жена и дети-то при чем? Тем более жена — как раз типичная русская, блондинка, курносая, даже и фамилия у нее осталась прежней — Митяшина, дети, они и есть дети, к тому же — не в обиду Грузенбергу — все в мать, такие же курносенькие и беленькие.
И как это Иру угораздило, такую беленькую и симпатичную, оказаться замужем за явно не блещущим внешностью и к тому же типичным? Вопрос, впрочем, риторический, а история вполне банальная, как все истории о любви. А если кто подозревает здесь некую злоумышленность, то совершенно напрасно: ни Грузенберг, ни Ирина Митяшина впоследствии ни разу не пожалели о своем решении (браки известно где совершаются) — бывает и такое.
Не мешало и то, что Грузенберг был человеком в общем-то нерелигиозным, а вот Ирина Митяшина, напротив, довольно регулярно посещала храм и в углу комнаты у нее стояла доставшаяся от бабушки старинная и, похоже, весьма ценная икона Божьей Матери с полусгоревшей свечой перед ней. Икона была красивая, и свеча тоже, хотя Ирина ее по-настоящему жгла и глядела сквозь длинный колеблющийся язычок пламени на темнеющий позади лик. Молилась.
Трое ангелоподобных созданий тоже были крещены в православной, исконно русской вере, причем, разумеется, с согласия и даже благословения самого Грузенберга, который, не веруя сам, тем не менее допускал, что крещение его детей каким-то образом действительно ставит их под защиту неких высших сил, а для него это было очень важно как для любого любящего и беспокойного отца, тревожащегося о судьбе своих любезных чад. Это было важно еще и потому, что Грузенберг сомневался, и не без основания, в своих собственных способностях и возможностях их защитить и оберечь.
Жена Ира Митяшина делала попытки так же и Грузенберга обратить на путь истинный, но тот, жестоковыйный, относился к ее заманкам довольно индифферентно: он, может, и рад бы, да не получается, зачем себя обманывать? Позиция скромная, но достойная и честная, а потому чуткая Ира Митяшина не настаивала: человек должен сам созреть, так что на их отношениях грузенберговская недозрелость никоим образом не сказывалась. Главное ведь ясно что — взаимопонимание!..
И вот теперь, на исходе более чем полуторадесятилетней совместной семейной жизни, вполне в общем-то счастливой, Грузенберг вдруг отчетливо осознал, что ему, увы, ничего другого не остается, кроме как — исчезнуть!
Испариться.
Аннигилироваться, если угодно. Что он просто обязан. Именно обязан, потому что от этого зависит. Так будет лучше и безопасней для близких, если он, хочет или не хочет, исчезнет, лишив уже четко наметившийся вектор агрессии самой главной координаты. Тем самым сбив с толку. Заметя след. Уведя погоню, как отвлекает от гнезда птица или от норы зверь.
Вопрос: а была ли погоня? Ведь это все можно было счесть чистой случайностью, совпадением: ну да, сначала неподалеку от дома, потом совсем близко, потом еще ближе, потом в подъезде, холодно, прохладно, тепло, еще теплее, горячо…
Мания преследования.
Нервишки. Стресс. Невроз.
Однако ж было, если честно, отчего. Тут уж не утешишься, что вообще растет уровень преступности, о чем трубили все газеты. Тут речь шла именно о Грузенберге конкретно и о семье его конкретно, которая, как подсказывала ему интуиция, тоже подвергалась опасности.
Из-за него!
Это только так говорится, что в одно место два раза не стреляют. В Грузенберга почему-то стреляли (условно) — и не два, а больше. Поневоле задумаешься, что делать, особенно если опасность начинает угрожать не только тебе, но и ближним.