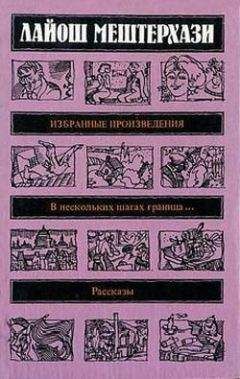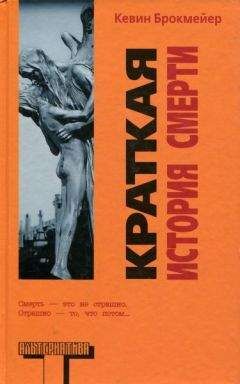Александр Фурман - Книга Фурмана. История одного присутствия. Часть III. Вниз по кроличьей норе
В какой-то момент раздался звонок в дверь (опытные руки мгновенно засунули бутылки в ближайший одежный шкаф), а потом в гостиной появился разъяренный мужчина в сопровождении милиционера. Они утверждали, что из окна именно этой квартиры на тротуар улицы Горького была брошена пустая бутылка из-под пива, и лишь по счастливой случайности никто из прохожих серьезно не пострадал от разлетевшихся осколков. Все стали испуганно отнекиваться – мол, этого просто не может быть! – но поскольку взрослых дома не оказалось, милиционер попросил листок бумаги и переписал фамилии, адреса и номера школ всех присутствующих. Двое или трое при этом подло назвались чужими именами. Напоследок дядька пригрозил, что так просто этого не оставит и еще зайдет поговорить с родителями о безобразиях, которые здесь творятся в их отсутствие…
Когда они ушли, в комнате воцарилось тяжелое молчание. Нарушил его круглолицый длинноволосый Валька Юмашев, который вдруг со смущенной улыбочкой затараторил: «Ребят, я, конечно, страшно извиняюсь… Я понимаю, что это выглядит как ужасная глупость с моей стороны, но просто я до конца не уверен… В общем, мне кажется, что это был я». Все были настолько погружены в себя, что поначалу даже не поняли, о чем он там лепечет. Покраснев, Валька вынужден был объяснить, что у себя дома в Переделкино (где он жил вдвоем с мамой в маленькой избушке) он иногда выбрасывает мусор в форточку: «Я знаю, что это очень нехорошо, но у нас там первый этаж и никого под окнами нет», – вот он, наверно, по своей дурацкой привычке и здесь машинально сделал так же, забыв, что внизу городская улица, а не деревенский двор…
– Да ладно, Валька, не переживай. Проехали, – сказал Дубровский.
Несмотря на Валькино честное признание, Фурмана это бесстыдное попустительство разгневало еще больше.
– Нет, Валь, зачем же ты так? – вдруг спокойно и отчетливо произнес сидевший в углу парень, которого именно Валька сегодня впервые привел в их компанию и который до этого момента ни с кем не обменялся и парой слов (хотя пиво потягивал с заметным удовольствием!). – Бутылку бросил я, и мне не требуется, чтобы ты меня прикрывал. Это даже обидно. Я и сам могу за себя извиниться.
Так… Вот это фокус… С новенького, конечно, взятки были гладки. Валька же проявил необычайное, поразительное благородство. (А может, и впрямь простодушно решил, что это сделал он? Как это ни смешно – ведь вполне мог!..) Зато в результате главные заводилы всего этого безобразия оказались как бы ни при чем.
Между тем время уже поджимало, пора было ехать на вокзал. Фурман продолжал злиться, но его настроения никто не разделял – наоборот, все бурно радовались тому, что «мент» не догадался обыскать сумки в прихожей и «боеприпасы» уцелели. А то, что они по пьяной глупости могли разбить кому-то голову, их ничуть не волновало!..
В метро и потом в электричке Фурман угрюмо молчал, и праведное «взрослое» негодование в очередной раз боролось в нем со стыдом предательства своих сверстников. Соня посматривала на него с хмурой опаской. Уже дойдя до калитки никитинского участка, он наконец решился и попросил беззаботно рвущегося вперед Наппу уделить ему минутку. Напомнив, что Виталий Генрихович считается руководителем клуба и, значит, в какой-то мере несет моральную ответственность за всех остальных, Фурман коротко рассказал ему о происшествии и предупредил о наличии «припасов». Наппу растерянно покривился, поблагодарил, сказал, что подумает над всем этим, но предпринимать ничего не стал. Да и что он мог сделать? Ребята под предводительством Дубровского вскоре развели на участке костерок и стали жарить на прутиках привезенный хлеб, а расстроенному Фурману пришлось принять участие в спортивно-интеллектуальной олимпиаде, в которой дети Никитиных на равных соревновались со взрослыми гостями.
Бóльшую часть логико-математических загадок и задачек на сообразительность он безнадежно провалил, в силовых упражнениях победила парочка неизвестно как оказавшихся здесь моряков Тихоокеанского флота, но в беге по пересеченной местности вокруг участка Фурман с холодным отчаянием задумал оказать все возможное сопротивление окружающему миру. После ознакомительной пробежки по маршруту он даже решил снять свои мягкие городские полуботинки и бежать босиком. Он был молчаливо сосредоточен на предстоящем испытании, и никто из весело бахвалившихся соперников, по-видимому, не воспринял его всерьез. Основными претендентами на победу считались моряки и один из старших сыновей Никитиных.
Участники забега стартовали друг за другом с десятисекундным интервалом. Рванувшись с места из низкой стойки (на самом деле это было лишнее), Фурман сразу поскользнулся и чуть не упал, но задержка только прибавила ему «спортивной злости». Босые ступни глухо шлепали по холодной сырой земле и тут же уносились в полет. Некоторое время справа и слева мелькали растерянно застывшие подробности, а потом в фокусе его хищного внимания осталась только скачущая впереди фигурка, и бег слился с острым, ликующим чувством счастья…
После подведения итогов олимпиады все разбрелись по дому и участку в ожидании обеда. В одной из проходных комнат Фурман наткнулся на одиноко сидящего Борю Минаева. Он предложил поговорить, и, отвечая на его вопрос, Фурман стал пересказывать недавно прочитанную в журнале «Иностранная литература» статью о различиях между восточным и западным способами мышления: Басё, Кавабата, дзен-буддизм, другое отношение к смерти, асимметрия полушарий мозга… В разгар беседы к ним вежливо присоединился один из взрослых гостей – грузный смуглолицый человек с густыми бровями и глазами навыкате, которого звали Юрий Петрович Азаров. Представляясь, он сказал, что профессионально занимается проблемами молодежи и к тому же является отцом четырнадцатилетнего подростка, поэтому его очень заинтересовало, чем же для «уважаемого Александра» так притягателен дзен-буддизм. Фурману пришлось признаться, что дело вовсе не в дзен-буддизме, – хотя все это, конечно, и вдохновляет на разные размышления, – а в общем кризисе поисков смысла жизни. Это главное, а то, на каких путях может быть найден выход из этого кризиса – в занятиях искусством, богоискательстве, в том же дзене или просто в любви к другому человеку, – наверное, не так уж и важно. Азаров почему-то очень обрадовался, даже благодарно пожал Фурману руку, начал о чем-то рассказывать – и вдруг с изменившимся взглядом стал торопливо пятиться к двери, бормоча на ходу: было очень приятно познакомиться, не смею вам мешать, надеюсь, еще увидимся… Он действительно сбежал, словно увидев привидение. Опешивший Фурман испуганно оглянулся, но в комнате больше никого не было. Он решил, что взрослый над ним посмеялся, и его охватил ужасный, обессиливающий стыд. С горящим лицом он виновато посмотрел на Минаева, но тот, ухмыляясь, сказал ему, чтобы он не переживал и не принимал странного поведения этого человека на свой счет: «Поверь, старик, в этом не было ничего личного. Просто ты кое-чего не заметил в окружающем нас мире, потому что стоял спиной к окну. А этот г-г-горячий восточный му-му-щина вдруг увидел, как там промелькнула одна необыкновенно красивая молодая женщина, и тут же бросился за ней вдогонку…» «Это ты кого имеешь в виду?» – недоверчиво спросил Фурман. «Я имею в виду нашу общую знакомую Ольгу Владиславовну Мариничеву, – бодро отрапортовал Борька и добавил с ерническим нажимом: – Должен тебе сказать, что я о-очень х-х-хорошо понимаю этого несчастного человека…»
Несмотря на все эти неудачи в общении и пережитое разочарование, Фурман все же должен был признаться самому себе, что теперь в его жизни, наряду с идеей написать роман, появился еще один источник возможного «спасительного будущего». Во всяком случае, он впервые оказался среди людей, многие из которых были так или иначе тоже причастны к «литературным занятиям». Конечно, в основном они были сориентированы на пошловатую газетную журналистику, но «писательские» амбиции имелись и у Минаева, и у Дубровского, и еще у нескольких ребят, и это порождало среди «избранных» особое ревниво-уважительное внимание друг к другу: «Как дела, старик? Пишешь что-нибудь? Ну-ну…»
3Придя домой после школьного выпускного вечера, который затянулся до шести утра, Фурман выложил на стол свой никчемный троечный аттестат о среднем образовании (поскольку он наотрез отказался участвовать в «унизительной» экзаменационной процедуре, маме пришлось взять в психдиспансере какую-то справку, по которой его официально освободили от выпускных экзаменов, выставив в аттестат годовые отметки), принял таблетку от головной боли, мучительно продремал сорок минут и, преодолевая тошноту и слабость, помчался на вокзал, чтобы вместе с клубом отправиться в очередные «гости» – на этот раз в город Тутаев Ярославской области, где находилась колония для несовершеннолетних преступниц с поэтичным названием Красный Бор. В этой колонии работала воспитателем бывшая однокурсница Мариничевой и Наппу. Для них эта поездка считалась шефской командировкой, а пятеро других членов клуба получили временный статус «внештатных сотрудников» газеты, что подтверждали соответствующие удостоверения на фирменных бланках «Комсомолки». Кроме Фурмана смогли поехать Минаев, его ровесница Лариса Артамонова – вальяжная красавица с тонким «бандитским» шрамиком на верхней губе и спадающей на один глаз челкой, художница Соня Друскина и бородатый студент-вечерник Митя Храповицкий с гитарой.