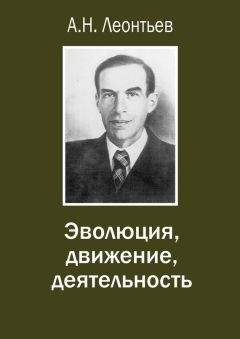Алексей Поляринов - Пейзаж с падением Икара
– Дамы и господа! Я рада, что мне выпала честь…
Пока она пускала пыль (или все-таки песок?) в глаза зевакам, я подошел к стене, снял картину и с напускным спокойствием понес ее сквозь галерею. Никто, казалось, не обратил на это внимания, только Катя испуганно посмотрела мне вслед (она до последнего не верила, что я решусь) и произнесла:
– Ломброзо говорил, что творчество неотделимо от безумия. Так давайте же выпьем за него! Ведь ради него мы все сегодня здесь собрались. За безумие!
– За безу-умие!! – подхватила толпа, подняв бокалы.
Держа в руках картину, я вообразил себя великим комбинатором и сперва ощутил эйфорию (какой я, однако, ловкий!), но чем ближе я был к выходу, тем более очевидной становилась нелепость ситуации. «Зачем я это делаю? Что и кому я хочу доказать? Господи, это ведь действительно очень глупо!» Рубашка прилипла к вспотевшей спине; мысли метались, как летучие мыши. Один из посетителей проводил меня взглядом, изумленно бормоча что-то. Я уже хотел развернуться и отнести картину назад, но было поздно – меня заметили. Все взгляды пересеклись на мне; повисла тишина.
– Андрей Андреич, что это вы делаете?
Я ощутил прилив стыда, лицо покрылось испариной.
– Зачем вы взяли картину? – спросил Никанор Ильич.
– Я… э-э-э… простите. Привычка. Просто… ну, я сейчас посмотрел на нее и понял, что она незакончена. Я забыл нарисовать овцу…
Никанор Ильич широко улыбнулся.
– Художник шу-утит! – воскликнул он, и все засмеялись так, словно поняли «шутку». Куратор подскочил ко мне, грубо взял под руку и потянул обратно вглубь галереи. Толпа расступалась перед нами. Я почувствовал, что, несмотря на чахлый внешний вид, Гликберг силен, как носорог.
– Ты что вытворяешь, клоун? – хрипел он. – Хочешь все испортить? Что это за цирк?
– Это не цирк. Я же говорил вам, что не хочу ее продавать. Я передумал.
– Передумал? – огромный кадык его дергался вверх-вниз. – Передумал? Ты совсем кретин, что ли? Позволь, я открою тебе одну страшную тайну: если ты работаешь со мной, ты не можешь просто так взять и передумать! Если не повесишь картину назад, я повешу на тебя кражу, понял?
– Вы повесите на меня кражу моей собственной картины?
– Я спрашиваю: понял?
Я хотел дать ему в кадык и гордо уйти, хотел поджечь эту картину у него на глазах, хотел плюнуть ему в лицо… но вместо этого тихо произнес слово, за которое себя ненавижу:
– Понял.
Он подвел меня к пустой стене и заставил повесить «Овцу» обратно.
– Еще одна такая выходка, и…
– Да понял я, понял.
– Завтра поговорим. Придурок, – шепнул он напоследок, потом повернулся к посетителям и снова надел маску простодушного куратора.
***
Через семь минут я сидел на ступеньках, на улице, с бутылкой в руке, запивая вином унижение.
Рядом присела Марина.
– Ты что там устроил?
Я долго смотрел на нее искоса – странно, но я был безумно рад, что именно она сидит здесь, сейчас, на ступенях. Это было так… естественно.
– А что такого? Ты же говорила, что я слишком предсказуемый. Вот я и решил стать эксцентричным, как Сальвадор Дали.
– Ты действительно думал, что никто не заметит, как ты уносишь картину с выставки?
– Ну… согласен, план был слегка недоработан. Но идея-то хорошая! Будет что вспомнить биографам, – я помолчал, глотнул вина, поморщился. – Просто… понимаешь, все это так неожиданно навалилось: выставка, куча людей вокруг. Еще и Катя вернулась зачем-то. У меня, кажется, невроз развился. Аж руки трясутся, смотри, видишь? Это странно. Все вокруг говорят, что это успех, а я… я хочу вернуть все назад.
Она взяла бутылку, сделала глоток.
– Назад? Куда? Хочешь опять быть нищим? Занимать у друзей деньги на кисти и краски?
– Нет. Просто хочу быть уверен, что все сделал правильно. Мне всегда казалось, что живопись – это мой личный способ остановить мгновение. Я пишу картины с одной целью – придать форму своему прошлому, сделать его осязаемым. И потому теперь, когда на мою мазню наклеили ценники, меня не оставляет ощущение, что я теряю не только краски, холсты, пейзажики и портретики, но и кусочки прошлого и эмоции, связанные с ними. Я понимаю – это глупо. Пару лет назад я продал одну свою картину, и уже на следующий день стал звонить покупателю с просьбой вернуть ее обратно, – я глубоко вздохнул. – Я должен признаться, только не смейся, – я смертельно боюсь ходить по мостам. Возможно, это связано с моим нежеланием продавать картины – тоже своего рода фобия. Я думаю, это зашифровано в генах, ведь мой отец страдал чем-то подобным – остаток жизни он посвятил поискам старого корабля. Он искал его так отчаянно, как будто пытался вернуться в прошлое с его помощью. Он не хотел верить, что это невозможно.
Марина покачала головой и ответила вполне ожидаемо:
– Господи, ты такой зануда. И зачем я с тобой общаюсь? Знаешь, в школе я однажды побила мальчика за то, что ему не понравилось, как я завязала шнурки. Бантики, видите ли, неровные.
Я искоса посмотрел на нее.
– Ты избила мальчика из-за шнурков?
– Нет, я разбила ему нос за то, что он обращал внимание на всякую чепуху типа шнурков и при этом совершенно не замечал, что я в него влюблена. Пойми, Андрей, есть вещи поважнее, чем воспоминания о счастливом детстве.
– Например.
– Например, сейчас.
– Что «сейчас»?
– Данный момент. Мгновение. Я вот считаю, что идеализировать прошлое – подло по отношению к настоящему. Прошлое, оно как тень – неотъемлемая часть тебя, никто не спорит, но и не настолько уж она важна, чтобы на ней зацикливаться.
Я восхищенно посмотрел на нее.
– Слушай, ты прям Сократ. В юбке.
– А ты – зануда.
– Это я-то зануда? Если ты не заметила, я только что чуть не совершил кражу!
– Да, и это была самая нелепая и нудная кража в истории.
– Спасибо.
– Не за что. Обращайся.
Мы долго молчали, глядя на проезжающие машины; я заметил, что черных машин больше всего.
– Ты хоть понимаешь, что пытался умыкнуть собственную картину? – спросила Марина.
– Ага.
– Не Рембрандта, не Брейгеля, а ту, что сам намалевал и сам отнес куратору! – она засмеялась: – Господи, ты пытался утащить с выставки картину прямо у всех на глазах! Неужели ты действительно верил, что все получится?
Неожиданно для себя я сам захихикал.
– Ну верил, ну и что?
Постепенно смех наш перерос в гомерический хохот. Я изображал, как беззаботно несу полотно под мышкой к выходу, как все смотрят на меня. Потом мы вместе представили, как мог бы выглядеть судебный процесс по моему делу («Подсудимый, встаньте! – сказал бы седой, похожий на бульдога, судья. – Вы признаете, что пытались украсть собственную картину?» «Признаю, ваша честь! – гордо сказал бы я. – И считаю, что, запрещая мне воровать мои личные вещи, вы ограничиваете мою свободу!»). От смеха у меня болела диафрагма, глаза слезились, но мы продолжали валять дурака, держась друг за друга, чтобы не упасть, и повторяя: «… украсть!… пытался!… свободу!…».
Когда кафкианская фантазия закончилась, я вытер слезы и внимательно посмотрел на Марину.
– Что? – спросила она. – Тушь потекла, да?
Я хотел ответить, но, – вместо этого, – поцеловал ее. И бутылка покатилась вниз по ступенькам, звеня, разливая вино.
Гроза закончилась, улица пахла дождевыми червями. Мы шагали по брусчатке (я слушал тонкий цокот ее каблучков). Говорили долго, с удовольствием, о всякой чепухе только для того, чтобы заполнить паузы.
– Тебе не кажется странным, что уже целую неделю льет дождь?
– Нет. Вот если бы с неба падали лягушки – это было бы странно. А дождь… осенью дождь – это нормально.
Она ткнула меня локтем в бок.
– Ладно-ладно, молчу, – сказал я, потирая ребра.
– Всегда хотела спросить, давно ты носишь очки?
– С детства.
– Долго привыкал?
– Да нет. А чего к ним привыкать? Нацепил на нос – и вперед.
– А вот я долго стеснялась. Мою подругу за очки дразнили «куриной слепотой», и я боялась, что надо мной тоже будут смеяться. Поэтому и ношу линзы.
– В этом твоя ошибка: нельзя показывать свой страх. Я ношу очки гордо, как знамя – а над знаменами не смеются. Психология. Один мой друг однажды нашел у себя седины – и покрасил волосы. Из-за этого я перестал с ним общаться. Нет, снобизм здесь ни при чем. Просто я считаю, что мужчина не имеет права на косметику. Если ты седой – будь добр гордо носить седину; если лысый – уважай свой череп, не оскверняй его вонючим паричком. Точно так же с очками: они – мой талисман, отличительный знак. И вообще, чем дольше я живу, тем больше плюсов нахожу в плохом зрении.
– Да? И каких же?
– Близорукость очень способствует развитию фантазии. Моему воображению всегда приходилось дорисовывать линии, расплывавшиеся перед глазами. Именно так у меня и появилась эта страсть – страсть к «дорисовыванию» мира.