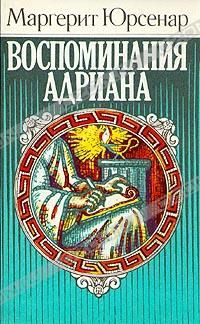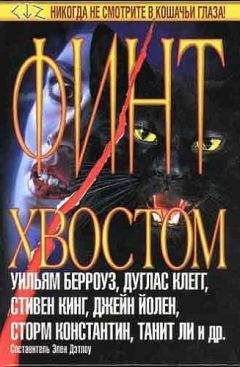Маргерит Юрсенар - Воспоминания Адриана
Мораль — условность приватная; но соблюдение приличий — дело общественное; вольность поведения, чересчур бросающаяся в глаза, всегда производила на меня впечатление прилавка с недоброкачественным товаром. Я запретил смешанные бани[99], являвшиеся причиной постоянных драк; я приказал расплавить и вернуть в государственную казну великолепный золотой сервиз, заказанный Вителлием[100]. Многие прежние цезари снискали себе позорную репутацию охотников за чужим наследством[101], я поставил себе за правило не принимать ни в пользу государства, ни для себя лично никакого имущества, на которое могли бы претендовать прямые наследники. Я старался сократить непомерно разросшееся число рабов императорского дома и, главное, приструнить тех из них, кто начинал мнить себя ровней достойнейшим гражданам, позволяя себе порой даже оскорблять их, — как-то один из моих рабов сказал дерзость сенатору, и я распорядился дать этому человеку пощечину. Моя ненависть к беспорядку дошла до того, что я велел в Цирке, при огромном стечении народа, наказать плетьми расточителей, злостно уклоняющихся от уплаты долгов. Дабы избежать смешения рангов и званий, я настоял на том, чтобы сенаторы носили вне дома тогу с пурпуровой полосой — вещь весьма неудобную, как и всякая парадная одежда, носить которую я и сам принуждал себя только в Риме. Я вставал с места, принимая своих друзей; я проводил аудиенции стоя, ибо выслушивать людей сидя или лежа считал бесцеремонностью. Я приказал уменьшить неслыханное множество конных повозок, загромождающих наши улицы, ибо это излишество скорости само себя подрывает и в результате пешеход опять получает превосходство над сотнями экипажей, теснящихся на протяжении всей Священной дороги[102]. Я взял обыкновение отправляться в гости в носилках; меня доставляли этим манером прямо в дом, и я избавлял хозяина от неприятной обязанности встречать и провожать меня на улице, под палящими лучами римского солнца или под пронизывающими порывами ветра.
Я вновь разыскал своих родственников; я чувствовал нежность к моей сестре Паулине, и даже Сервиан мне уже был не так противен, как прежде. Моя теща Матидия привезла с Востока первые симптомы своей смертельной болезни; я старался, как мог, отвлечь ее от страданий с помощью домашних застолий, где скромный глоток вина быстро опьянял почтенную матрону, сохранившую наивность юной девушки. Отсутствие моей жены, укрывавшейся у себя в деревне с очередным приступом дурного настроения, ничуть не омрачало этих семейных радостей. Пожалуй, она была единственным человеком, у кого я так и не завоевал симпатии; должен, правда, признать, что я никогда особенно не старался в этом преуспеть. Порой я навещал маленький домик, в котором вдовствующая императрица спокойно наслаждалась размышлениями и книгами. Здесь я вновь обретал прекрасное молчание Плотины. Она неприметно и тихо уходила в тень; этот сад, эти светлые комнаты все больше становились прибежищем музы, храмом императрицы-богини[103]. Ее дружба оставалась по-прежнему требовательной, но ее требования отличались мудрым благоразумием.
Я опять стал видеться с друзьями; мне на долю выпало редкое удовольствие после долгой разлуки возобновить наши встречи, заново оценить этих людей и дать им возможность заново оценить меня. Виктор Воконий[104], давний мой товарищ по забавам и литературным трудам, умер; я взялся сочинить надгробную речь; многие улыбались, когда я в числе достоинств покойного упомянул его нравственную чистоту, что опровергалось его собственными стихами. Но здесь вовсе не было грубого лицемерия, как это могло показаться: наслаждение, которому предаются со вкусом, представлялось мне целомудренным. Я приводил в порядок Рим, словно это был дом, хозяин которого, намереваясь со временем его покинуть, не хотел бы, чтобы дом от этого пострадал; новые мои помощники показывали, на что они способны; примирившиеся ныне противники ужинали на Палатинском холме с теми, кто был их друзьями в трудные времена. Нератий Приск набрасывал у меня на столе проекты законодательных реформ; архитектор Аполлодор объяснял нам свои чертежи; Цейоний Коммод, богатейший из патрициев, отпрыск древнего этрусского рода, в чьих жилах текла чуть ли не царская кровь, знаток вин и людей, прикидывал вместе со мной, какой тактики мне лучше держаться на ближайшем заседании Сената.
Его сын, Луций Цейоний, которому в ту пору едва исполнилось восемнадцать лет, оживлял эти сборища, которые я хотел бы видеть строгими, своим веселым изяществом юного принца. У него было много странных и милых причуд: страсть готовить для своих друзей редкие блюда, изощренная склонность украшать все вокруг цветами, безумная тяга к азартным играм и маскарадным костюмам. Его Вергилием был Марциал; с очаровательным бесстыдством декламировал Луций его исполненные сладострастия стихи. Я оказался щедр на посулы, что потом немало тяготило меня; этот юный танцующий Фавн отнял у меня шесть месяцев жизни.
На протяжении последующих лет я так часто терял Луция из виду и снова встречал, что образ его, который сохранился у меня в памяти, состоит из обрывков наложенных друг на друга воспоминаний и, должно быть, совсем не соответствует ни одной фазе его столь быстро пронесшейся жизни. Дерзкий законодатель римской моды; начинающий оратор, прилежно твердивший стилистические упражнения и спрашивающий моего мнения по поводу трудного пассажа; молодой командир, нервно теребящий свою редкую бородку; заходившийся кашлем больной, от постели которого я не отходил до самого его смертного часа, — все это было много позже. Образ Луция-отрока соприкасается с более потаенными уголками памяти: лицо, тело, бледно-розовый алебастр — живое подобие любовных посланий Каллимаха, ясных и обнаженных строк поэта Стратона[105].
Но я торопился покинуть Рим. Мои предшественники чаще всего уезжали из Рима для того, чтобы отправиться на войну; для меня же вне его стен начинались все мои великие замыслы, моя мирная деятельность, сама моя жизнь.
Оставалось свершить последнее дело — воздать Траяну триумф, идея которого неотвязно преследовала его, когда он был уже безнадежно болен. Триумф приличествует, пожалуй, только умершим. Пока мы живы, всегда находятся люди, которые готовы поставить нам в упрек наши слабости, как некогда Цезарю — его плешивость и его любовные связи. Но тот, кто умер, имеет право на это чествование, на эти несколько часов шумного великолепия перед веками славы и тысячелетиями забвения. Судьба покойного ограждена от превратностей; даже его поражения обретают пышность побед. Последний триумф Траяна прославлял не столько его успехи в борьбе с парфянами, довольно, впрочем, сомнительные, сколько то прекрасное напряжение сил, каким была вся его жизнь. Мы собрались для того, чтобы почтить императора, самого лучшего из всех, кого после одряхления Августа знал Рим, наиболее ревностно относившегося к своему труду, наиболее честного и наименее несправедливого. Его недостатки теперь стали теми неповторимыми черточками, благодаря которым мы признаем тождество мраморного бюста с тем, кто послужил ему моделью. Душа императора воспаряла к небесам, возносимая неподвижной спиралью колонны Траяна[106]. Мой приемный отец становился богом, он занимал свое место в ряду тех воинственных воплощений бессмертного Марса, что из века в век сотрясают и обновляют наш мир. Стоя на балконе Палатинского дворца, я мысленно взвешивал свое несходство с Траяном и настраивал себя на достижение более мирных целей. Я начинал уже грезить о власти, напоминающей ту, какой обладают олимпийские боги.
Рим находится уже не в Риме — он или погибнет, или сравняется в конце концов с половиной мира[107]. Эти крыши, эти террасы, эти дома, которые закатное солнце румянит таким прекрасным розовым светом, больше не опоясаны боязливо крепостными стенами, как во времена наших царей; добрую часть этих укреплений я сам возвел заново вдоль германских лесов и британских ланд. Всякий раз, как я видел издалека, за поворотом залитой солнцем дороги, какой-нибудь греческий акрополь и вокруг него город, в своем совершенстве подобный цветку и органично соединенный со своим холмом, как цветочная чашечка со своим стеблем, я ощущал, что это редчайшее растение ограничено самим своим совершенством и во всей своей законченности может существовать лишь в данной точке пространства и на данном отрезке времени. Единственная надежда распространиться дальше заключалась для него, точно так же как и для растения, в семенах — в посеве идей, которыми Греция оплодотворила весь мир. Но Рим более грузен и более груб, он без всякого плана раскинулся по берегам реки, он искони устремлен к захвату широких просторов — город превратился в государство. Мне бы хотелось, чтобы государство расширилось еще больше и определилось бы как порядок мира, порядок вещей. Достоинствам, которых было достаточно для малого города на семи холмах, нужно придать большую гибкость и большее многообразие, чтобы они сделались годными для всей земли. Риму, который я первым решился назвать Вечным городом, предстояло все больше и больше уподобляться богиням-матерям азиатских культов, давшим жизнь юношам и жатвам и прижимающим к своей груди львов и пчелиные ульи. Но всякое творение рук человеческих, притязающее на вечность, должно жить в согласии с изменчивым ритмом природных стихий, применяться ко времени звезд. Наш Рим — это уже не пастушеское селение времен древнего Эвандра[108], чреватое великим грядущим, которое отчасти стало уже прошлым; хищный Рим времен Республики выполнил свою роль; буйная столица первых цезарей сама теперь жаждет остепениться; придут и другие Римы, чей облик мне трудно себе представить, но чьему становлению я буду способствовать. Когда я посещал города древние, священные, но так и оставшиеся в прошлом и ныне уже ничего не значащие для человечества, я обещал себе избавить мой Рим от окаменевшей судьбы Фив, Вавилона и Тира. Он вырвется из своего каменного тела; на идеях государственности, гражданственности, республиканских добродетелей он воздвигнет более надежный оплот своего бессмертия. В странах пока еще диких, на берегах Рейна, Дуная или Батавского моря[109], при виде любой огражденной частоколом деревни я вспоминал камышовую хижину, где, насытившись молоком волчицы, спали на куче навоза наши близнецы. Эти будущие города воспроизведут Рим. Над телами народов и племен, над случайностями географии и истории, над хаосом требований предков и богов мы должны, ничего не разрушая, навсегда утвердить единство человеческого поведения, основанное на мудром опыте. Рим будет продолжен каждым маленьким городком, власти которого заботятся о проверке точности весов у торговцев, об уборке и освещении улиц, об искоренении беспорядков, лени, страха и несправедливости, а также о разумном применении законов. Рим погибнет не раньше, чем падет последний город людей.