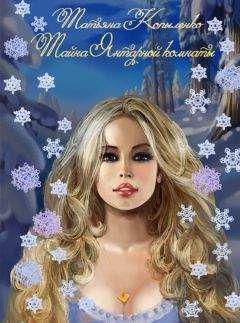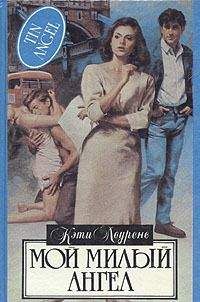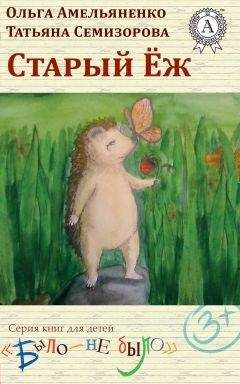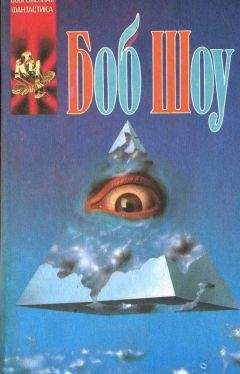Ольга Славникова - Бессмертный
В доказательство того, что список нуждаемости составлен не кустарно, а полно и объективно, Клумба напоминала, что является уполномоченной благотворительного “Фонда А”, куда ее, как опытного социального работника, пригласили еще в начале избирательной кампании. Именно по этим спискам, неоднократно уточненным, фонд распределял большие продуктовые наборы – теперь же наработки можно было использовать вторично и с неменьшей пользой. Уже окончательно узнавая Марину как знакомую женщину, которой прекрасно известно, что такое больной, беспомощный старик, Клумба заточенным указательным находила в списке номер Алексея Афанасьевича: против него на полях, испещренных целыми кустами пометок и значков, стояли птичка и плюс. Действительно, Марина припоминала, как в единственный за последние недели выходной она проснулась от звучавших в прихожей резких, как бы милицейских голосов: выскочив, она увидела, как мать, уже одна, возится с тяжелым фирменным пакетом, где на фоне яркой аэрофлотовской синевы устремляется в светлое будущее отлакированный Апофеозов. В подарке обнаружился целый комплект документов, включавших изданную на мелованной бумаге программу Апофеозова, генеральный план переустройства территории, а также биографию кандидата, иллюстрированную снимками из семейного архива. На первом голенький младенец, совершенно молочный и как бы немного подкисший, тянулся к смазанной игрушке; далее появлялся угрюмый школьник, сосредоточенный взглядом на призраке собственного носа. Далее, по мере того как старшие, усталые и мужеподобные родственники Апофеозова сменялись новой, уже лично им организованной и выведенной популяцией, все большую роль начинала играть Первая Леди семейства, чувствовавшая себя в пространстве фотокамеры, точно слониха в посудной лавке, и выражавшая скованными позами предельную деликатность – тогда как руки ее, все время мявшие рукав кому-то из домочадцев, были жесткими и когтистыми лапами орлицы. В той же брошюре присутствовали и выделялись всеми возможными типографскими способами снимки Апофеозова с персонажами большой политики, причем рукопожатие, если таковое имелось, выглядело так, будто Апофеозов берется за рычаг какого-то механизма или – на худой конец – игрального автомата. Нарушение закона о выборах со стороны непрошеных благотворителей было очевидно, и Марина на другой же день, отдавая Шишкову написанные накануне пресс-релизы, сообщила о случившемся. Однако профессор буквально закрыл на это глаза: массируя бледные, трепетавшие под пальцами глазные яблоки, он замахал на Марину рукой и слепо ушел, наткнувшись по дороге на белый косяк. Собственно, доказать нарушение было почти невозможно: точно такие же комплекты литературы, только без сопровождения тушенки, сгущенки и колбасы, доводились до каждого избирателя и торчали из жестоко изнасилованных почтовых ящиков, валялись под ногами у жителей подъездов, обогащая свои страницы отпечатками разных подошв. Марине волей-неволей пришлось употреблять апофеозовские дары, дававшие понять печальным желудочным запашком, что находятся на пределе срока годности; больше всего ее задело, что мать не выбросила макулатуру противника немедленно в ведро, а тихо сохранила и тайно рассматривала семейную хронику, уделяя особое внимание задастенькому пупсу, тянущемуся ручонкой в размытую муть переднего плана, словно в собственное будущее, где его ожидает заслуженный приз.
Списки для благотворительности, принесенные Клумбой, включали двести тридцать шесть человек, набранных на компьютере, и еще десяток приписанных от руки. Марина, принимая опасные бумаги, обещала проконсультироваться, уклончиво ссылалась на инструкции, давала понять, что возможности штаба в смысле пособий весьма ограничены; дипломатические переговоры, в которых посетительница была непрошибаема для намеков, как желтевшая за нею крашеная стенка, затягивали чаепитие на добрых полтора часа. Глядя на Клумбу, что макала в мутный чай размоченные до сытного бархата ванильные сухари, Марина ощущала обострившимися нервами, что и эта ярая общественница носит в себе человеческую загадку. Почему она, такая брезгливая во время своих государственных визитов к больным и старикам, столь страстно защищает во внешнем мире их интересы и тем отождествляется с ними – с предметом своей метафизической ненависти, которую не умеет и не желает скрывать? Марине и прежде не раз приходило в голову, что Клумба ведет себя, будто свихнувшийся Чичиков, скупающий мертвые души не ради заклада, а ради вечного владения сонмом мертвецов; так, разделяя со смертью ее пожатую собственность и тем ущемляя ее законные права, можно было бы достичь еще одного суррогата бессмертия, и, видимо, Клумба что-то такое и имела в виду, приватизируя полудохлое население восемнадцатого участка. Все болезни и немощи подопечных находились теперь в распоряжении Клумбы, ей нужны были только механизмы, чтобы толково управлять этим оборотным капиталом,– и тут в равной мере годились и апофеозовский благотворительный фонд, и схема профессора Шишкова, которую Клумба преспокойно выворачивала наизнанку. Видимо, она могла еще и не это: власть, даваемая суммарной немощью двух с половиной сотен избирателей, была побольше той, что мог бы обеспечить такой же численности вооруженный отряд. Вот только как быть с ненавистью к самому источнику своего морального обогащения – с ненавистью тем более сильной, что она была не общечеловеческой, но женской, то есть связанной запутанными связями с одной из разновидностей чувства красоты? И могла ли Клумба, получив по доверенности столько физической боли и добиваясь, чтобы эта боль стала для всех как можно более реальной, совсем не пострадать от трансляции?
При всей своей самоуверенности она не выглядела таким совершенным и равнодушным автоматом. Видимо (тут Марина была недалека от истины), презрение Клумбы к пенсионерам и инвалидам было формой защиты от непосредственности боли и убожества, что доносились до благотворителей в переработанном виде,– и, значит, на долю Клумбы оставался осадок, ядовитый отход производства собственной власти. Если бы она принадлежала к разряду тех политиков, что делают моральный капитал на собирательном образе страдающего гражданина, на идеальных мертвых душах, заранее очищенных от всего житейского, ей бы жилось неплохо. Однако, чтобы заниматься таким привилегированным делом, надо уже иметь и деньги, и власть, а Клумба шла из низов. Свою частицу власти она добывала примитивным старательским способом, буквально из грязной земли. Упорством Клумбы, ее умением совершать насилие над собственными чувствами можно было только восхищаться. Вблизи, через стол, Марина видела, что представительница собеса на самом деле вовсе не помолодела, скорее наоборот: всюду вспухли фиолетовые, синие, розовые жилки, точно женщина, как шариковая ручка, была заправлена пастами разных цветов, и под глазами скопились нехорошие, говорившие о тайном нездоровье, табачные тени. Очень может быть, что Клумба и в самом деле была наделена некой загадочной способностью, имела талант, который грубо проявлялся в ее злосчастье ощущать чужой недуг непосредственно на себе. Вероятно, при ином стечении обстоятельств Клумба (настоящее имя – Вера Валериевна Белоконь, урожденная Репина) могла бы стать редкостным врачом-диагностом или, что не хуже, незаменимой медсестрой – не больной, а, благодаря укрощенному и правильно применяемому дару, очень здоровой женщиной, с точным глазом и суровыми руками. Видимо, путь этой женщины был путем милосердия, жизнь ее должна была пройти в хлорированной нищей больнице. Теперь же у Клумбы получалось извращение пути, страстное его изображение на благотворительных подмостках; ее неукротимая деятельность была театром, где она играла, как могла, сама себя, а списки инвалидов были пьесой, которую Клумба раздавала всему составу исполнителей. Понятно, что никакая сила не заставила бы ее признать, что она занимается чем-то неподлинным; фальшь своих усилий Клумба топила в сокрушительной страсти, из-за которой ее близко посаженные глаза запали в ямы и сверкали оттуда маслянистыми несвежими белками. Определенно – вблизи, лицом к лицу, она представляла собой жалкое зрелище; Марина даже подумала, что с такими глазами Клумбе следовало бы носить затемненные очки.
Однако стоило Клумбе встать и отдалиться, как она опять казалась на расстоянии полной тридцатилетней женщиной, пышущей румянцем и неосознанным счастьем двигаться, дышать кислородным снежным коктейлем, искоса поглядывать на новые сапоги, так славно перехваченные по голенищу плетеным кожаным шнурком. Марина не могла понять причины этого эффекта: возможно, самый воздух восемнадцатого участка теперь стирал, преломляясь, разрушения времени, так что даже помпезные трущобные насыпухи с их курортным дизайном пятидесятых годов, ныне превращенным в мерзость и гниль, издалека казались новенькими и даже нарядными; их рискованное положение на краю оснеженного обрыва, под которым, будто пятно под мышкой, темнела питаемая авариями водопровода, плохо замерзающая лужа, было исполнено особой картинности сказочных иллюстраций. Если бы можно было вот так ни к чему не приближаться, все видеть издалека и ничего вблизи, то жизнь на восемнадцатом участке была бы хорошей для всех. Наверное, с того астрономического расстояния, с которого освещалась и делалась видимой территория (расстояние от Земли до Солнца равнялось в эти дни примерно 0,9884 астрономических единиц, или 147 864 640 километрам), все здесь выглядело, точно маленький рай, украшенный бисером построек, нежно подернутый драгоценным человеческим дыханием. Казалось, будто над территорией простерта охраняющая рука, будто эта земля и есть отпечаток огромной и доброй руки, обрисовавшей себя на узорной поверхности, как дети обводят свои ладошки на бумажном листе. Марина ловила себя на том, что делается сентиментальна.