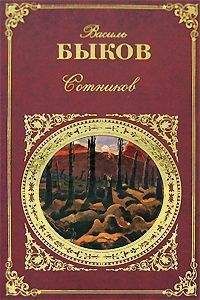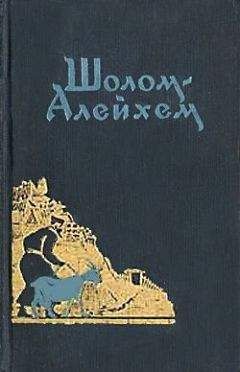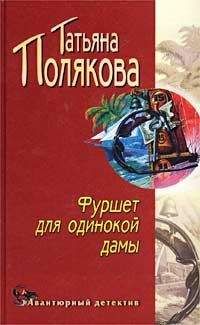Питер Акройд - Завещание Оскара Уайльда
Но потом, возвращаясь на Тайт-стрит к спящим детям, я мучился стыдом – как мог я позволить страсти настолько собой овладеть, что забыл и о семье, и о писательском даре? Впрочем, стыд – своеобразная вещь: он совершенно беспомощен перед лицом более сильных чувств. Я не мог остановиться: в жажде лучшего я выискивал худшее. Подобно философу Сарданапалу, я заплатил бы огромные деньги тому, кто изобрел бы какое-нибудь новое удовольствие. В безумии своем я хотел грешить красиво, совершенствовать технику греха. Великая тайна Фауста заключается не в разделении рассудка и чувства, а в том, что чувственность была для него утонченнейшей формой разума. И вот, отдавая дань немецкой мысли, я не сдерживал своих порывов; может быть, этого и вправду не стоило делать, ибо, неосуществленные, они могли обратиться в отраву. Именно поэтому я полагаю, что у самого необузданного распутника жизненная философия здоровее и чище, чем у пуританина. Пуритане – злейшие враги цивилизации: они не понимают, что в основе ее лежит радость.
Теперь, конечно, вам понятно, почему я стал так же широко известен в определенной части низшего сословия, как и среди тех, кто стоял на самом верху. Я хорошо знал все узенькие проулки, ответвлявшиеся от Оксфорд-стрит, и мальчишки с Пиккадилли свистели и гикали, когда я проходил мимо; разумеется, именно поэтому я редко сопровождал жену в магазин «Суон энд Эдгар».
Идя все дальше по стезе порока, я находил новые и новые места, где можно было ему предаваться. Названия этих улиц начертаны у меня в мозгу огненными буквами, словно я входил во врата Ада и читал ужасные слова, на которые указывал мне Вергилий: Блю-Энкер-лейн, Бомбей-стрит, Грейсез-элли, Уэллклоуз-сквер. В этих местах я обшарил все ночные притоны и все отвратительные закоулки в поисках Лазаря и, найдя, настоял на том, чтобы поцеловать его в губы; так я заразился великою лихорадкой. Там были дома, где юношей выставляли на аукцион на потребу старым развратникам, были комнаты, где удовлетворялись самые извращенные желания и рождались новые. Там в безумном вожделении я, случалось, покрывал поцелуями все тело юноши; в такие минуты я смутно прозревал тайну священных оргий, когда вызывают духов и говорят с богами.
Порой я бежал из этих мест, содрогаясь от ужаса; в любом случайном уличном крике мне слышалась угроза, любой еле ползущий экипаж с желтой фарой, казалось, готов был отвезти меня прямиком в Ад. Когда меня, пробирающегося по темным пустым улицам, освещал фонарем полицейский, я в жутком страхе отшатывался. Грязный желто-голубой газовый свет преследовал меня повсюду, сердце билось, как колокол. Вот какой стала моя жизнь.
Но иногда я покидал ночные притоны со сладостным чувством успокоения и довольства. В такие минуты наивысшего физического удовлетворения в мозгу у меня рождались великолепные строки; я записывал их в блокнот и потом использовал в своих произведениях. Однажды, идя в рассветных сумерках по тихим лондонским улицам, я, помнится, сочинил целое стихотворение – тогда мои стихи еще имели названия, и оно называлось «Симфония в желтом». Эти рассветы приводили меня в восторг: темные дома и мостовые превращались в жемчужно-серые тени, постепенно обретавшие очертания. Проходя мимо Парка, я встречал фургоны, которые двигались к Ковент-Гардену, и сидевшие на них крестьяне желали мне доброго утра. Город подобен человеческому телу: в начале каждого дня он пробуждается неоскверненным и облачается в одеяния, сотканные из чуда и славы.
Точно так же обновлялась и моя душа. Именно тогда я обрел диковинный опыт двойной жизни. Я искренне сочувствовал бедным и по какому-то атавистическому влечению всегда стремился погрузиться в их среду. Но это стало для меня чисто интеллектуальным переживанием: я шел по сумрачному Лондону и отрешенно смотрел на кипучую жизнь, которая была моей всего несколько часов назад и которая станет моей, как только я захочу.
В телесной близости, говоря по правде, я тешил вовсе не плоть, а душу. Подобно изображениям богини Лаверны, я был головой без тела: воспоминание о грехе приносило мне больше наслаждения, чем сам грех. Острое ощущение радости проистекало не из чувств моих, а из рассудка. Я познал все удовольствия, не отдаваясь ни одному из них, стоя в стороне, пребывая в своей нерушимой целостности. Склоняясь над этими юношами, я мог видеть свой образ, отраженный в их глазах: два человека в одном, и первый глядит из-под набрякших век на наслаждение второго.
18 сентября 1900г.
Сегодня утром я получил письмо от Сфинкс.
Мой милый Оскар!
Писала Вам уже три раза, но Вас «не было дома». Умоляю, объясните – почему. О Вас до меня доходят только пересуды; в прошлом я всегда верила пересудам, но лишь тем, что исходили от Вас. Лишившись божества, Сфинкс умолкла и может только разбрасывать по иссохшей земле бессмысленные обрывки фраз. Прошу Вас, напишите. Вечно Ваша, милый Оскар,
Ада
Я взялся сочинять ответ.
Моя милая Сфинкс!
Ваши слова потрясли меня, подобно грому. Увы, я живу благоразумно, но невесело, и поэтому писать, в сущности, не о чем. Помните ли Вы сказанные мной когда-то слова о том, как ужасно было бы под конец жизни узнать, что ты не говорил ничего, кроме правды? Но не менее ужасно обнаружить, что все написанное тобой обернулось фальшью, – так что теперь слова пугают меня. Милая Сфинкс, я открою Вам секрет, который, как и все секреты, Вы, я надеюсь, забудете. Я пишу историю моей жизни. Как и я, Вы знаете, что миру нет дела до воспоминаний, написанных теми, кого он успел позабыть. Так что я пишу для самого себя – уж читатель-то я неплохой. Вы помните, как после премьер я приходил к Вам пораженный и просил Вас объяснить попросту, что же такое я сделал? Вы успокаивали меня на гребне успеха. Вы утешали меня в…
На этом месте я остановился и выбросил письмо; исповеди на гостиничной бумаге всегда выглядят донельзя тоскливо. Я начал заново:
Моя милая Сфинкс!
Я был так счастлив получить от Вас сегодня утром весточку, что не могу не написать Вам несколько строк, чтобы сказать, как прекрасно и мило с Вашей стороны было вспомнить обо мне. Робби говорил мне, что Вы по-прежнему делаете смертных бессмертными на страницах «Панча». Жаль, что Вы не пишете для какой-нибудь парижской газеты – я неустанно выискивал бы Ваши заметки на французском языке, который Вы умеете делать таким прелестным.
Меня постигла большая беда, но друзья добры ко мне и порой посылают мне забавные зеленые бумажки, которые пригождаются мне в ресторанах. Мечтаю пообедать с Вами, как встарь. Всегда Ваш
Оскар
Добавить к этому нечего, правда?
19 сентября 1900г.
Я стал проблемой современной этики, как выразился бы Саймондс [81], хотя порой мне казалось, что я-то и есть решение. Особенности моего поведения теперь обсуждаются на каждом углу, ибо я, конечно же, выбрал сценически наиболее подходящий момент, чтобы поведать миру о своем телесном падении. Даже немцы проявляют ко мне интерес [82], и из всего невероятного, что со мной происходит, самое невероятное, может быть, то, что меня будут помнить не как художника, а как специфический случай, как психологический феномен, место которого где-то поблизости от Онана и Иродиады. Возможно, меня даже помянет Эдвард Карпентер [83] в одном из своих самых выразительных пассажей. Я понимаю Карпентера превосходно, хотя, кажется, сам он себя не понимает, – сознание греховности, написал он однажды, есть некая слабость человеческого рода. Но истинная наша слабость куда занятнее: мы называем те или иные вещи греховными, чтобы наслаждаться ими еще яростнее.
Как обычно в современной мысли, проблема сводится к названию. Я не извращен – я прельщен. Если я уранист, то моя родина – в той части небосвода, где Уран осенен звездной славой. Ибо я почитаю любовь между мужчинами за высшую ее разновидность, превознесенную философами, которые видели в ней отсвет идеальной любви, и художниками, которые прозревали в мужской фигуре черты духовного совершенства. Современная медицина в невежестве своем изобретает все новые термины, бессмысленные, как уханье совы в полдень, – но слова «здоровье» и «болезнь» совершенно неприменимы к человеческой психике. Ибо кто не предпочтет быть больным вместе с Леонардо и Винкельманом тому, чтобы быть здоровым вместе с Холлом Кейном и миссис Кэшел Уи?
Каждое великое творение есть некое нарушение равновесия, и все лучшее в искусстве рождается в лихорадке страсти – я и мне подобные такую страсть испытали. Любовь к мужчине вдохновила Микеланджело на великолепные сонеты; она же повелела Шекспиру обессмертить возлюбленного в словах, исполненных огня; она водила пером Платона и Марло.
Став слугою этой любви, я увидел в ней роковое совершенство, присущее высшим проявлениям жизни. Я обязан ей как бескорыстным стремлением к прекрасному, так и усталой горечью самопознания. Именно эта любовь заставила Караваджо написать Иоанна Крестителя с улыбкой, полной детского очарования, и глазами, которые уже видели весь предстоящий ужас. В этом образе соединены обольщение и отчаяние, невинное желание и потревоженное довольство.