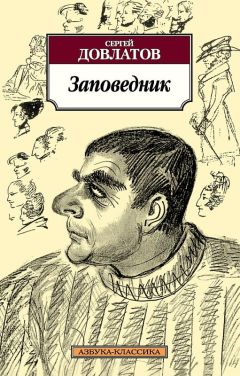Сергей Довлатов - Зона: Записки надзирателя
— Извиняюсь, — сказал Борташевич.
— Продолжайте, — махнул рукой Хуриев.
Представление шло к финальной сцене. Чемоданчик был спрятан до лучших времен. Феликс Дзержинский остался на боевом посту. Купеческая дочь забыла о своих притязаниях…
Хуриев отыскал меня глазами и с удовлетворением кивнул. В первом ряду довольно щурился майор Амосов.
Наконец Владимир Ильич шагнул к микрофону. Несколько секунд он молчал. Затем его лицо озарилось светом исторического предвидения.
— Кто это?! — воскликнул Гурин. — Кто это?!
Из темноты глядели на вождя худые, бледные физиономии.
— Кто это? Чьи это счастливые юные лица? Чьи это веселые блестящие глаза? Неужели это молодежь семидесятых?..
В голосе артиста зазвенели романтические нотки. Речь его была окрашена неподдельным волнением. Он жестикулировал. Его сильная, покрытая татуировкой кисть указывала в небо.
— Неужели это те, ради кого мы возводили баррикады? Неужели это славные внуки революции?..
Сначала неуверенно засмеялись в первом ряду. Через секунду хохотали все. В общем хоре слышался бас майора Амосова. Тонко вскрикивала Лебедева. Хлопал себя руками по бедрам Геша Чмыхалов. Цуриков на сцене отклеил бородку и застенчиво положил ее возле телефона.
Владимир Ильич пытался говорить:
— Завидую вам, посланцы будущего! Это для вас зажигали мы первые огоньки новостроек! Это ради вас… Дослушайте же, псы! Осталось с гулькин хер!..
Зал ответил Гурину страшным неутихающим воем:
— Замри, картавый, перед беспредельщиной!..
— Эй, кто там ближе, пощекотите этого Мопассана!..
— Линяй отсюда, дядя, подгорели кренделя!..
Хуриев протиснулся к сцене и дернул вождя за брюки:
— Пойте!
— Уже? — спросил Гурин. — Там осталось буквально два предложения. Насчет буржуазии и про звезды.
— Буржуазию — отставить. Переходите к звездам. И сразу запевайте «Интернационал».
— Договорились…
Гурин, надсаживаясь, выкрикнул:
— Кончайте базарить!
И мстительным тоном добавил:
— Так пусть же светят вам, дети грядущего, наши кремлевские звезды!..
— Поехали! — скомандовал Хуриев.
Взмахнув ружейным шомполом, он начал дирижировать.
Зал чуть притих. Гурин неожиданно красивым, чистый и звонким тенором вывел:
…Вставай, проклятьем заклейменный…
И дальше, в наступившей тишине:
…Весь мир голодных и рабов…
Он вдруг странно преобразился. Сейчас это был деревенский мужик, таинственный и хитрый, как его недавние предки. Лицо его казалось отрешенным и грубым. Глаза были полузакрыты.
Внезапно его поддержали. Сначала один неуверенный голос, потом второй и третий. И вот я уже слышу нестройный распадающийся хор:
…Кипит наш разум возмущенный,
На смертный бой идти готов..
Множество лиц слилось в одно дрожащее пятно. Артисты на сцене замерли. Лебедева сжимала руками виски. Хуриев размахивал шомполом. На губах вождя революции застыла странная мечтательная улыбка…
…Весь мир насилья мы разрушим
До основанья, а затем…
Вдруг у меня болезненно сжалось горло. Впервые я был частью моей особенной, небывалой страны. Я целиком состоял из жестокости, голода, памяти, злобы… От слез я на минуту потерял зрение. Не думаю, чтобы кто-то это заметил…
А потом все стихло. Последний куплет дотянули одинокие, смущенные голоса.
— Представление окончено, — сказал Хуриев.
Опрокидывая скамейки, заключенные направились к выходу.
16 июня 1982 года. Нью-Йорк
Полагаю, наше сочинение близится к финалу.
Остался последний кусок страниц на двадцать.
Еще кое-что я сознательно решил не включать.
Я решил пренебречь самыми дикими, кровавыми и чудовищными эпизодами лагерной жизни. Мне кажется, они выглядели бы спекулятивно.
Эффект заключался бы не в художественной ткани, а в самом материале.
Я пишу — не физиологические очерки. Я вообще пишу не о тюрьме и зеках. Мне бы хотелось написать о жизни и людях. И не в кунсткамеру я приглашаю своих читателей.
Разумеется, я мог нагородить бог знает что.
Я знал человека, который вытатуировал у себя на лбу: «Раб МВД». После чего был натурально скальпирован двумя тюремными лекарями. Я видел массовые оргии лесбиянок на крыше барака. Видел, как насиловали овцу. (Для удобства рецидивист Шушаня сунул ее задние ноги в кирзовые прохаря.) Я был на свадьбе лагерных педерастов и даже крикнул: «Горько».
Еще раз говорю, меня интересует жизнь, а не тюрьма. И — люди, а не монстры.
И меня абсолютно не привлекают лавры, со временного Вергилия. (При всей моей любви к Шаламову.) Достаточно того, что я работал экскурсоводом в Пушкинском заповеднике…
Недавно злющий Генис мне сказал:
— Ты все боишься, чтобы не получилось как у Шаламова. Не бойся. Не получится…
Я понимаю, это так, мягкая дружеская ирония И все-таки зачем же переписывать Шаламова. Или даже Толстого вместе с Пушкиным, Лермонтовым, Ржевским?.. Зачем перекраивать Александра Дюма, как это сделал Фицджеральд? «Великий Гетсби» — замечательная книга. И все-таки я предпочитаю «Графа Монте-Кристо»…
Я всегда мечтал быть учеником собственных идей. Может, и достигну этого в преклонные годы.
Итак, самые душераздирающие подробности лагерной жизни я, как говорится, опустил. Я не сулил читателям эффектных зрелищ. Мне хотелось подвести их к зеркалу.
Есть и другая крайность. А именно — до самозабвения погрузиться в эстетику. Вообще забыть о том, что лагерь — гнусен. И живописать его орнаментальных традициях юго-западной школы.
Крайностей, таким образом, две. Я мог рай сказать о человеке, который зашил свой глаз. И человеке, который выкормил раненого щегленка на лесоповале. О растратчике Яковлеве, прибившем свою мошонку к нарам. И о щипаче Буркове рыдавшем на похоронах майского жука…
Короче, если вам покажется, что не хватает мерзости, — добавим. А если все наоборот, опять же — дело поправимое…
Когда меня связали телефонным проводом, я успокоился. Голова моя лежала у радиатора парового отопления. Ноги же, обутые в грубые кирзовые сапоги, — под люстрой. Там, где месяц назад стояла елка…
Я слышал, как выдавали оружие наряду. Как лейтенант Хуриев инструктировал солдат. Я знал, что они сейчас выйдут на мороз. Дальше будут идти по черным трапам, вдоль зоны, мимо рвущихся собак. И каждый будет освещать фонариком лицо, чтобы солдат на вышке мог его узнать. Первым делом я решил объявить голодовку. Я стал ждать ужина, чтобы не притронуться к еде. Ужина мне так и не принесли…
Я слышал, как вернулись часовые. Как они зашли в оружейный парк. Как с грохотом швыряли инструктору через барьер подсумки с двумя магазинами. Как ставили в пирамиду белые от инея автоматы. И как передвигали легкие дюралевые табуретки в столовой. А затем ругали повара Балодиса, оставившего им несколько луковиц, сало и хлеб.
Но, как я догадался, забывшего про соль…
Трезвея от холода, я начал вспоминать, как это было:
Днем мы напились с бесконвойниками, которые пытались меня обнимать и все твердили:
— Боб, ты единственный в Устьвымлаге — человек!..
Затем мы отправились через поселок в сторону кильдима. Около почты встретили леспромхозовского фельдшера Штерна. Фидель подошел к нему. Сорвал ондатровую шапку. Зачерпнул снега и опять надел. Мы шли дальше, а по лицу фельдшера стекала грязная вода.
Потом мы зашли в кильдим и спросили у Тонечки бормотухи. Она сказала, что дешевой выпивки нет. Тогда мы закричали, что это все равно. Потому что деньги все равно уже кончились.
Она говорит:
— Вымойте полы на складе. Я вам дам по фунфурику одеколона…
Тонечка пошла за водой. Вернулась через несколько минут. От бадьи шел пар.
Мы сняли гимнастерки. Скрутили их в жгуты. Окунули в бадью и начали тереть дощатый пол. Мы с Балодисом работали добросовестно. А Фидель почти не мешал.
Потом мы выпили немного одеколона. Мы просто утомились ждать. Он страшно медленно переливался в кружки.
Вкус был ужасный, и мы закусили барбарисками. Мы жевали их вместе с прилипшей к ним оберточной бумагой.
Тонечка сказала: «На здоровье!»
Латыш Балодис подмигнул ей и спрашивает Фиделя:
— Ты бы мог?
А Фидель ему и отвечает:
— За миллион и то с похмелья…
Когда мы вышли, было уже темно. Над лесобиржей и в поселке зажглись огни.
Мы прошли вдоль конюшни, где стояли телеги без лошадей. Фидель затянул: «Мы идем по Уругваю!..» А Балодис схватил гитару и ударил ее об дерево. Обломки мы кинули в прорубь.
Я поглядел на звезды. У меня закружилась голова…