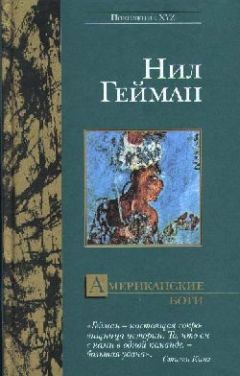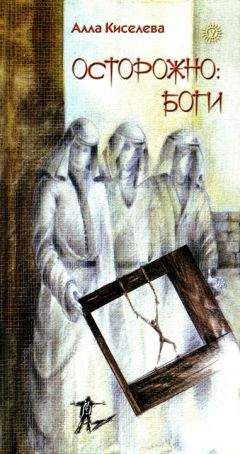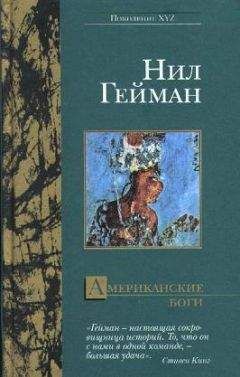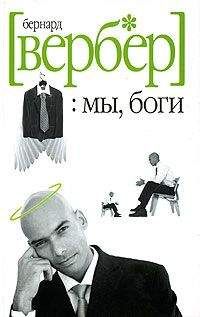Петр Проскурин - Судьба
— Мама, — сказала она шепотом, — это я, Аленка.
Сказала и замолчала, и так как Ефросинья опять окликнула откуда-то снизу, словно из-под земли, теперь уже с явным недоверием в голосе, Аленка наконец продохнула остановившийся, давящий комок в горле.
— Это я, Аленка, — опять сказала она, и потом была минута удивительной, почти убивающей тишины; Аленка чувствовала, как мать, задерживая дыхание, спешит вверх по ступенькам; она никогда не знала раньше, что может так волноваться, она сейчас могла умереть от любви и нетерпения, да скорее же, скорей, просила она. Наконец дрожащие руки матери нащупали и со стуком откинули крючок, затем заскрипел еще какой-то запор, дверь распахнулась, и Аленка увидела в глухой темноте слабо светлевшую фигуру матери и услышала ее задавленный, больной вскрик.
— Доченька! Аленка! Господи, живая, а? Неповрежденная, а? Господи, да что же это за наваждение?
Ефросинья тяжело осилила последние две ступеньки, обхватила дочь за голову и притянула к себе, Аленка слышала, как у матери гулко стучит сердце...
— Простынешь, мама, — говорила она сквозь слезы, все так же прижимаясь к материнской груди, — ты ж без одежи, в одной рубахе, босая. Пойдем, пойдем в тепло. Иди, иди, я только мешок свой захвачу.
Ничего не видя из-за слез, нащупывая дорогу руками, Ефросинья спустилась вниз, за нею пошла Аленка, прикрыв за собою верхнюю дверь и от волнения не замечая густого, теплого воздуха, ползшего снизу из землянки.
— Господи, да у нас-то спичек нету, — плачущим голосом сказала Ефросинья, разгребая в печке золу и стараясь отыскать тлевший уголек — Наверное, Егорку придется будить, пусть высечет огоньку кресалом-то...
— У меня зажигалка есть, мама, — вспомнила Аленка, похлопывая по карманам шинели. — Я ее с фронта берегу. Вот, вот, сейчас, — торопилась она, и когда неверный, тусклый свет разогнал тьму, Аленка как-то сразу охватила и стены землянки, и бревенчатый черный потолок, и застывшее в мучительной радости лицо матери, и босые длинные и узкие ступни ног кого-то из братьев, торчащие с топчана в углу; вздрагивающими руками Аленка зажгла в руках матери коптилку из гильзы противотанкового снаряда и обессиленно опустилась на подвернувшийся стул. Ефросинья, перебирая босыми ногами, стала торопливо одеваться, сунула ноги в какие-то опорки, набросила на себя юбку.
— Господи, какая ты большая стала, — говорила она, разглядывая Аленку во все глаза и совершенно не понимая, что еще нужно делать по такому случаю. — Раздевайся, — сказала она с невольной обидой, — что ж ты сидишь, как у чужих.
Аленка стала раздеваться, оглянулась и, различив набитые у двери гвозди, зацепила за один из них шинель и осторожно прошлась по землянке, по неровному дощатому полу, постояла у широкого топчана, переделанного из нар, над спящими братьями и все никак не могла разобрать, кто из них кто, оба лежали головами в тени, но она все же разглядела Егора по косматой, отливающейся чернью голове, и какая-то тихая, ослабляющая радость затопила ее. Чего-то не хватало в землянке, и она с нарастающей тревогой внимательно прошлась взглядом вокруг.
— Мам, — спросила она медленно, словно растягивая время, — а бабушка?
— Да еще в весну, сразу после пасхи, похоронили, — сказала Ефросинья тем ровным голосом, каким говорят о привычном. — Поносом ее высушило, стали обмывать в гроб-то положить, ну, одни мощи, весу в них никакого. Как пустоту в доски забили, да в яму.
Аленка сидела и никак не могла понять, о чем это говорит мать: значит, бабка Авдотья умерла еще весной, бабушки Авдотьи нет, этого как-то нельзя и понять; они, бывало, на печке лежали, и бабушка всякие случаи рассказывала; о чем бы она ни говорила, все у нее было жизнью — и мертвецы оживали, и ведьмы тележными колесами катались, и под капустными листьями росли удалые молодцы да красны девицы, в лесных дуплах скрывались горькие сироты. Аленка почувствовала, какой огромный мир ушел из ее жизни, и она стала беднее и хуже; она плакала с открытыми глазами, недвижно, затем плечи ее стали вздрагивать. Ефросинья подошла и прижала ее голову к своему теплому большому животу.
— Она старая уже была, — спокойно сказала Ефросинья. — Вот на могилку потом к ней сходим, там и поплачешь. Господи, волоса-то у тебя окорочены, как у мужика. Ну что ж ты, ну, ну, домой добралась живая, — теребила Ефросинья дочь — Ты теперь гоголем должна ходить, на каждую былинку дивоваться да радоваться, а что бабка Авдотья, что ж теперь, вон сколько молодых сгинуло, жить бы да жить им. И отца не слышно, Иван так и пропал, утихомирится война, может, отыщется кто.
— Ой, мама, ой, мама, я сама боялась и спрашивать про них, — Аленка прижималась мокрой щекой к руке матери. — Почему же так плохо на свете? За что такое человеку?
Она подняла голову, и худое, большое лицо матери показалось ей необычно суровым и далеким, хотя она чувствовала на себе ее дыхание.
— А ты на всех не греши, человек, он разный бывает, — сказала с тихим убеждением Ефросинья. — Мир не без добрых людей, не будь их, и мои, и братьев твоих косточки давно бы воронье расклевало, дочка...
— Не надо, мам, — попросила Аленка. — Я уж столько видела боли да страха... мне всех так и хочется пожалеть. Разбудила я тебя среди ночи. — Отодвинув обшлаг гимнастерки, Аленка поглядела на наручные мужские часы. — Четвертый час ночь тянется, тянется...
— Что ты, что ты, — сказала Ефросинья, которая никак не могла определить, в чем же это так изменилась Аленка и почему они прямо чужие, даже немножко не по себе с ней, словно не она и родила и выходила, вон при часах и на груди какие-то висюльки блескучие, поди тебе награды, да и лицом, речью совсем переменилась, чужая, чужая, думала Ефросинья, в то же время чувствуя огрубелыми руками, всем своим большим, уставшим от жизни телом, что рядом родная ее, богом данная кровь и плоть, ее дитя; что ж, выросла, как все роженое на свете возрастает и уходит по своим путям, уходит по закону страдать и радоваться, ну и Аленка выросла, ну и бог с нею, сама знает, что ей хорошо и что плохо.
Ефросинья села рядом, словно боясь, что дочь возьмет да исчезнет внезапно, как и появилась, и оглядывала ее, беспорядочно и неровно вспоминая всякие новости, затем, торопливо, на полуслове, вскочив на ноги, стала разжигать печь.
— Ты небось голодная, — сказала она. — Так я счас картошку варить поставлю, ноне, слава богу, лукошек пятьдесят накопали, зиму-то протянем как-никак. И телушку по третьему году купили, видала закуток-то? Обгулялась, аж в Слепню с Егоркой водили. Одно боюсь, как бы не увели недобрые люди, тогда хоть в петлю — Ефросинья теперь говорила не умолкая, ей было хорошо похвалиться перед дочкой и картошкой, и телушкой, немыслимую цену которой знала одна она, и Колькой, который от книжек весь лицом почах, только глаза нехорошо светятся; она говорила о семейных новостях и о том, что изменилось у соседей и родных, Аленка же думала и думала о бабке Авдотье и никак не могла привыкнуть, что ее нет и никогда больше не будет.