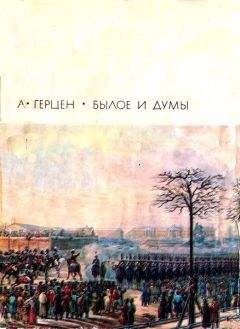Александр Герцен - Былое и думы. (Автобиографическое сочинение)
Опять Шекспир и Расин.
Видит ли француз пьяных, дерущихся у кабака, и полисмена, смотрящего с спокойствием постороннего и любопытством человека, следящего за петушиным боем, — он приходит в неистовство, зачем полисмен не выходит из себя, зачем не ведет кого-нибудь au violon,[823] Он и не думает о том, что личная свобода только и возможна, когда полицейский не имеет власти отца и матери и когда его вмешательство сводится на страдательную готовность — до тех пор, пока его позовут. Уверенность, которую чувствует каждый бедняк, затворяя за собой дверь своей темной, холодной, сырой конуры, изменяет взгляд человека. Конечно, за этими строго наблюдаемыми и ревниво отстаиваемыми правами иногда прячется преступник, — пускай себе. Гораздо лучите, чтоб ловкий вор остался без наказания, нежели чтоб каждый честный человек дрожал, как вор, у себя в комнате. До моего приезда в Англию всякое появление полицейского в доме, в котором я жил, производило непреодолимо скверное чувство, и я нравственно становился en garde против врага. В Англии полицейский у дверей и в дверях только прибавляет какое-то чувство безопасности.
В 1855, когда жерсейский губернатор, пользуясь особым бесправием своего острова, поднял гонение на журнал «LHomme» за письмо Ф. Пиа к королеве и, не смея вести дело судебным порядком, велел В. Гюго и другим рефюжье, протестовавшим в пользу журнала, оставить Жерсей, — здравый смысл и все оппозиционные журналы говорили им, что губернатор перешел власти, что им следует остаться и сделать процесс ему. «Daily News» обещал с другими журналами взять на себя издержки. (29) Но это продолжалось бы долго, да и как, — «будто возможно выиграть процесс против правительства». Они напечатали новый грозный протест, грозили губернатору судом истории — и гордо отступили в Гернсей.
Расскажу один пример французского понимания английских нравов. Однажды вечером прибегает ко мне один рефюжье и после целого ряда ругательств против Англии и англичан рассказывает мне следующую «чудовищную» историю.
Французская эмиграция в то утро хоронила одного из своих собратьев. Надо сказать, что в томной и скучной жизни изгнания похороны товарища почти принимаются за праздник, — случай сказать речь, пронести свои знамена, собраться вместе, пройтись по улицам, отметить, кто был и кто не был, а потому демократическая эмиграция отправилась au grand complet.[824] На кладбище явился английский пастор с молитвенником. Приятель мой заметил ему, что покойник не был христианин и что, в силу этого, ему не нужна его молитва. Пастор, педант и лицемер, как все английские пасторы, с притворным смирением и национальной флегмой, отвечал, что, может, покойнику и не нужна его молитва, но что ему по долгу необходимо сопровождать каждого умершего молитвой на последнее жилище его. Завязался спор, и, так как французы стали горячиться и кричать, упрямый пастор позвал полицейских.
— Allons done, parlez-moi de ce chien de pays avec sa sacree liberte![825] — прибавил главный актер этой сцены после покойника и пастора.
— Ну, что же сделала, — спросил я, — la force bru-tale au service du noir fanatisme?[826]
— Пришли четыре полицейских, et Ie chef de la bande[827] спрашивает: «Кто говорил с пастором?» Я прямо вышел вперед, — и, рассказывая, мой приятель, обедавший со мною, смотрел так, как некогда смотрел Леонид, отправляясь ужинать с богами, — cest moi, «monsieur», (30) car je men garde bien de dire «citoyen»[828] a ces gueux-la.[829] — Тогда Ie chef des sbires[830] с величайшей дерзостью сказал мне: «Переведите другим, чтоб они не шумели, хороните вашего товарища и ступайте по домам. А если вы будете шуметь, я вас всех велю отсюда вывести». — Я посмотрел на него, снял с себя шляпу и громко, что есть силы, прокричал: «Vive la republique democratique et sociale!»[831] Едва удерживая смех, я спросил его:
— Что же сделал «начальник сбиров»?
— Ничего, — с самодовольной гордостью заметил француз. — Он переглянулся с товарищами, прибавил:
«Ну, делайте, делайте ваше дело!» и остался покойно дожидаться. Они очень хорошо поняли, что имеют дело не с английской чернью… у них тонкий нос!
Что-то происходило в душе серьезного, плотного и, вероятно, выпившего констабля во время этой выходки? Приятель и не подумал о том, что он мог себе доставить удовольствие прокричать то же самое перед окнами королевы, у решетки Букингамского дворца, без малейшего неудобства. Но еще замечательнее, что ни мой приятель, ни все прочие французы при таком происшествии и не думают, что за подобную проделку во Фран(31)ции они бы пошли в Кайенну или Ламбессу. Если же им это напомнишь, то ответ их готов: «A bah! Cest une halte dans la boue… ce nest pas normal!»[832]
А когда же у них свобода была нормальна?
Французская эмиграция, как и все другие, увезла с собой в изгнание и ревниво сохранила все раздоры, все партии. Сумрачная среда чужой и неприязненной страны, не скрывавшей, что она хранит свое право убежища не для ищущих его — а из уважения к себе, — раздражала нервы.
А тут оторванность от людей и привычек, невозможность передвижения, разлука с своими, бедность — вносили горечь, нетерпимость и озлобление во все отношения. Столкновения стали злее, упреки в прошедших ошибках — беспощаднее. Оттенки партий расходились до того, что старые знакомые перерывали все сношения, не кланялись…
Были действительные, теоретические и всяческие раздоры… но рядом с идеями стояли лица, рядом со знаменами — собственные имена, рядом с фанатизмом — зависть и с откровенным увлеченьем — наивное самолюбие.
Антагонизм, некогда выражавшийся возможным Мартином Лютером и последовательным Томасом Мюнцером, лежит, как семенные доли при каждом зерне: логическое развитие, расчленение всякой партии непременно дойдет до обнаружения его. Мы его равно находим в трех невозможных Гракхах, то есть, считая тут же и Гракха Бабефа, и в слишком возможных Суллах и Сулуках всех цветов. Возможна одна диагональ, возможен компромисс, стертое, среднее и потому соответствующее всему среднему: сословию, богатству, пониманью. Из Лиги и гугенотов — делается Генрих IV, из Стюартов и Кромвеля — Вильгельм Оранский, из революции и легитимизма — Людвиг-Филипп. После него антагонизм стал между возможной республикой и последовательной; возможную назвали демократической, последовательную — социальной — из их столкновения вышла империя, но партии остались.
Несговорчивые крайности очутились в Кайенне, Ламбессе, Бель Иле и долею за французской границей, преимущественно в Англии. (32)
Как только они в Лондоне перевели дух и глаз их привык различать предметы в тумане, старый спор возобновился с особенной нетерпимостью эмиграции, с мрачным характером лондонского климата.
Председатель Люксембургской комиссии был, de jure, главное лицо между социалистами в лондонской эмиграции. Представитель организации работ и эгалитарных[833] работничьих обществ, он был любим работниками; строгий по жизни, неукоризненной чистоты в мнениях, вечно работающий, сам, sobre,[834] мастер говорить, популярный без фамильярности, смелый и вместе осторожный, он имел все средства, чтоб действовать на массу.
С другой стороны, Ледрю-Роллен представлял религиозную традицию 93 года, для него слова республика и демокрация обнимали все: насыщение голодных, право на работу, освобождение Польши, сокрушение Николая, братство народов, падение папы. Работников было меньше около него, его хор состоял из capacites,[835] то есть из адвокатов, журналистов, учителей, клубистов и проч.
Двойство этих партий ясно, и именно поэтому я никогда не умел понять, как Маццини и Луи Блан объясняли свое окончательное распадение частными столкновениями. Разрыв лежал в самой глубине их воззрения, в задаче их. Им вместе нельзя было идти, но, может, не нужно было и ссориться публично.
Дело социализма и итальянское дело различались, так сказать, чередом или степенью. Государственная независимость шла прежде, должна была идти прежде экономического устройства в Италии. То же мы видели в Польше 1831, в Венгрии 1848. Но тут нет места полемике, это скорее вопрос о хронологическом разделении Труда. чем о взаимном уничтожении. Социальные теории мешали прямому, сосредоточенному действию Маццини, мешали военной организации, которая для Италии была необходима; за это он сердился, не соображая, что для французов такая организация только могла вредить. Увлекаемый нетерпимостью и итальянской кровью, он напал на социалистов, и в особенности на Луи Блана, в небольшой брошюрке, оскорбительной и ненужной. По (33) дороге зацепил он и других, так, например, называет Прудона «демоном»… Прудон хотел ему отвечать, но ограничился только тем, что в следующей брошюре назвал Маццини «архангелом». Я раза два говорил, шутя, Маццини: