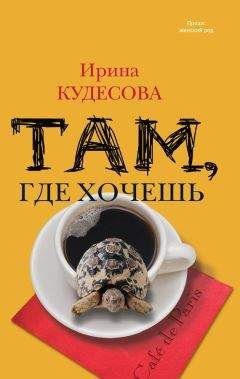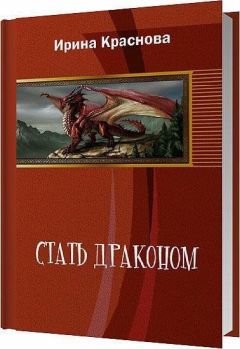Однажды осмелиться… - Кудесова Ирина Александровна
Вот только голос у Алены был какой-то странный.
17
На вопрос: «Что же там такое, что нельзя было взять в салон?» — Иосиф ничего не ответил, только загадочно крякнул. «Подарок, — подумала Алена. — Сколько раз говорила ему тяжелое не поднимать». Далее состоялся следующий диалог:
— Ося, ну что ты там еще такое придумал? Мне везешь, да?
— Да… уж.
— Оно не очень тяжелое?
— Конечно, тяжелое. Потому и потеряли. Там бревно.
— Ося, прекрати клоунировать. Какое еще бревно?
— А вот такое. Живое. Но если я тебе скажу, будет неинтересно.
Алена подумала, что только живого бревна ей и не хватало. И что от Иосифа всего можно ожидать. Собственно, именно этим он и пленил ее — студентку, явившуюся на дом к неулыбчивой профессорше и робевшую так, что самой было противно.
— Ося, ну там, надеюсь, не совсем оно живое? Я не могу сейчас никого заводить.
Иосиф вздохнул:
— Совсем. И боюсь, они его заморозили.
«Так. Щенка купил». — Алене было приятно, что Иосиф помнил, как она сказала в прошлую встречу — ужасно хочется далматинчика. Но это же так — мечтания. Куда ей сейчас собаку? И вообще… зачем его, маленького, в багаж сдавать? Меж тем Иосиф грустно пробормотал:
— Я ему вязаную одежку надел. Чтобы не простыл.
— Слушай, а зачем ты щенка в багаж сдал?
Иосиф так же меланхолично продолжал:
— Не в багаж… В отделение для животных. И это не щенок. Это поросенок. Я окончательно расстроен.
Алена дара речи лишилась. Понятно, что Ося славен своей безбашенностью, но такое… Одно дело — купить свиненка (при Осиных связях — в два счета), но другое — держать в доме. Ведь гадить всюду будет, корми его, а потом вымахает скотина. Будет копытами стучать по дому. Это уже не смешно. Если даже представить себе, как Нина открывает дверь и видит Иосифа в сопровождении свиньи, и то не смешно.
— Ося… — начала Алена, но тот вдруг оживился, сказал, что явился начальник аэропорта, и — «перезвоню позже».
Нина стояла у зеркала в ванной и накладывала на лицо крем.
На ней болтались тренировочные штаны (она спала в них, когда холодно было), футболка с надписью васильковым «Я поддерживаю однополые браки» (как-то Алене однокурсник всучил, он поддерживал еще как, на деле), а на ногах у Нины наблюдались ярко-красные тапки с опушкой розовыми перьями, видимо купленные к поездке.
— Вид у меня тот еще? Ну, твоим друзьям все равно. Я в этом дрыхнуть буду.
— Нин, слушай, мой… друг задерживается, так что мы до двенадцати можем поболтать, а уж потом ты спустишься к ребятам, они как раз в это время ложатся. Приходи на кухню.
Нина кивнула.
Алена отправилась строгать салатики (к Новому году ведь не готовила), а когда через полчаса зашла в комнату, Нина мирно посапывала на кровати, в коконе одеяла. Была половина одиннадцатого, самое время морщины гнать, да и от привычки не убежишь.
Алена улыбнулась, выключила свет. Она любила Нину — такой. С этими аляповатыми тапками, всеядным кокетством, наивными попытками впечатлить кого-нибудь своими стихами. Отчаянным усилием выглядеть моложе. Грошовыми хитростями в виде телефонного разъединения. Потому что это Нина забрала ее, маленькую, из семьи — никем не любимую Аленку, гадкого утенка, вечно простуженную, неумытую и пугливую. Это Нина разгородила небольшую однушку, отделила часть для Алены занавеской (позже поставили фанерную стенку), это Нина выбирала между Аленкой и дядей Витей, с которым жила тогда, хорошо жила, но дядя Витя воспротивился появлению диковатой девочки, которая спала теперь с ним в одной комнате, на руки не шла, молчала — ребенок не подкупал, не умилял. И Нина — не сразу, но выставила дядю Витю, а ведь, может, сложилось бы у них.
Кто мог предположить, что Нина со всем своим нерастраченным пылом размечтается об Иосифе! Она, верно, поддалась искушению, уловив восхитительную энергию, особенную, только ему присущую, которую он ни на кого и ни на что не жалел, тратил бездумно, зачастую пускал на самую ерунду, на проходную шутку, и «ерунда» эта раздавалась, как сыроежка после щедрого дождя, становилась самоценной и неожиданно интересной. Иосиф никогда не унывал; он мог вспылить, но остывал мгновенно, не стыдился признать вину и принимался сам себя упрекать, попеременно изображая обвиняемого и обвинителя. Присылал ужасно смешные эсэмэски. И все вокруг него будто тихонько звенело, иногда радостно, иногда мягко, плюшево. И Нина поймала эту волну, не рассуждая, потянулась за ней — так же, как когда-то Алена.
18
Ольга Кочур испокон веку звала к себе студентов. Ей не нравилось куковать часы консультаций в академии, и ребята приходили на дом, садились на край глубокого кресла красного дерева, из Индии привезенного, — неудобное, оно служило Ольге «лакмусовой бумажкой»: каждый по-своему располагался в нем, и характер был — как на ладони. Некоторые устраивались глубже, проваливались (сиденье шло под наклоном), но предпочитали неудобство униженному балансированию на краешке. Другие сидели, как птичка на жердочке, не рыпались, внимали. Такие обычно отказывались от стакана чая, чувствовали себя неловко, спешили упорхнуть. Насколько Иосиф знал, Ольгу они раздражали. Как, впрочем, раздражали и те, кто пытался вести себя раскованно, закидывал ногу на ногу, нахваливал необычную обстановку (Иосиф много чего привез из Индии). А если такой студент позволял себе произнести вместо «Ольга Эгидиюсовна» нечто вроде «Ольга Эгидюсовна» или даже «Эгиюсовна» (про «Эгюсну» и говорить не стоит), то это воспринималось не иначе как неуважение к литовскому народу. Ольга была постоянно чем-нибудь да недовольна, студенты это знали, но старавшихся угодить она особенно не жаловала. К ней относились с должным почтением — старейший преподаватель, зав. кафедрой, — но любви не было и в помине. Тем не менее на пенсию она не торопилась, чего она там не видела, на пенсии. Присутственных дней в академии у нее набиралось немного совсем, она не надрывалась. Конечно, если бы Иосиф согласился продать бизнес, можно было бы уехать в Палангу — как давно она мечтает об этом, как часто вспоминает родной городок! Воздух, пропитанный сосновой горечью, беспокойная полоса прибоя, белый, чистый песок. Детство. В детстве она ничего не боялась — уходила прочь от земли, далеко-далеко в море по знаменитому дощатому мосту — поздней осенью, в темноте: отдыхающие уже разъехались, безлюдно, ветер курточку насквозь продувает, волны под ногами бьются о сваи, а она идет все дальше по этому будто бесконечному мосту, ей чудится, что вот-вот, и она шагнет в какое-то другое пространство, в волшебный антимир. Сейчас же ей страшно даже на пенсию выходить, окончательно остаться наедине с собой, с мыслями о надвигающейся старости, с ощущением чего-то недоделанного в жизни (чего?). Работала, двух дочерей вырастила, муж есть, а ведь вот оставила бы все, уехала бы — туда, где мост ведет далеко в море, где запах сосен. Но смелости не хватает. И балансируют студенты на краешке деревянного кресла, прилетают-упархивают, не зацепив, не вызвав улыбки. Таких, кого разглядеть захотелось, за все эти годы по пальцам пересчитать можно. Иосиф, посмеиваясь, списывает это на «горячий литовский темперамент»; где-то оно так и есть — «сдержанность на грани с безразличием», как сказала однажды старшая дочь.
Когда Алена Завадская, на излете пятого курса, поймала ее на кафедре и, помявшись, сообщила, что собирается в аспирантуру («Ольга Э-ги-ди-юсовна (лелея каждый слог), не могли бы вы быть моим научным руководителем?»), первой мыслью было, что экономика и менеджмент этой девочке как рыбе зонт, а второй — что есть в ней что-то щемяще знакомое. Это «что-то» она вскоре вычислила: дикарство, в точности то же, что так мешало жить ей самой — когда она приехала на учебу в огромный Питер из истоптанной вдоль и поперек Паланги. Любопытства не было, а только — желание спрятаться, уйти от всех далеко по воображаемому мосту, туда, где только ветер и волны плещут. Этой девочке Алене тоже никто не требовался, но тут было другое. То ли ее обидели, то ли она просто боялась людей. Когда первый раз пришла в дом, села в индийское кресло, потерялась в нем, худая, тонкая, и — невольно отворилась, свесила кисти рук с подлокотников, замерла. Но через минуту-другую уже оказалась на краешке, локти уперты в колени, захлопнулась. Ольга видела саму себя — сорок лет назад, — и хотелось сделать этой девчонке приятное, а может, и не ей, а себе, в конечном-то счете. И как-то после консультации позвала ее поужинать — «будет только мой муж и мы с вами». Удивительно, но та согласилась сразу.