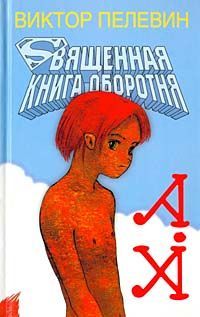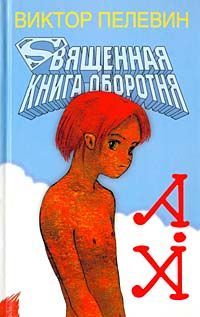Виктор Пелевин - Чапаев и Пустота
– Они поют, – сказала Анна, – слышите?
Она подняла ладонь, словно чтобы защитить волосы от ветра, но сразу же опустила – ее стрижка лишала это движение всякого смысла. Я подумал, что совсем недавно она, должно быть, носила другую прическу.
– Слышите? – повторила она, поворачиваясь ко мне.
Действительно, сквозь грохот вагонных колес пробивалось довольно красивое и стройное пение. Прислушавшись, я разобрал слова:
Мы кузнецы – и дух наш Молох,
Куем мы счастия ключи.
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи, стучи, стучи!!
– Странно, – сказал я, – почему они поют, что они кузнецы, если они ткачи? И почему Молох – их дух?
– Не Молох, а молот, – сказала Анна.
– Молот? – переспросил я. – А, ну разумеется. Кузнецы, потому и молот. То есть потому, что они поют, что они кузнецы, хотя на самом деле они ткачи. Черт знает что.
Несмотря на нелепость текста, в этой несущейся сквозь зимнюю ночь песне было что-то завораживающее и древнее – может быть, дело было не в самой песне, а в этом странном сочетании множества мужских голосов, пронизывающего ветра, заснеженных полей и редких маленьких звезд в небе. Когда поезд изогнулся на повороте, стала видна цепь темных вагонов – видимо, те, кто в них ехал, пели в полной темноте, и это дополняло картину, делая ее еще таинственнее и страннее. Некоторое время мы молча слушали.
– Может быть, это что-то скандинавское, – сказал я. – Знаете, там был какой-то бог, и у него был магический молот, которым он пользовался как оружием. Кажется, в Старшей Эдде. Да-да, и все остальное так подходит! Этот заиндевелый темный вагон перед нами – чем не молот Тора, брошенный в неведомого врага! Он неотступно несется за нами, и нет силы, способной остановить его полет!
– У вас живое воображение, – сказала Анна. – Неужели вид грязного вагона возбуждает в вас все эти мысли?
– Что вы, конечно нет, – сказал я. – Я просто пытаюсь быть приятным собеседником. На самом деле я думаю о другом.
– О чем же? – спросил Чапаев.
– О том, что человек чем-то похож на этот поезд. Он точно так же обречен вечно тащить за собой из прошлого цепь темных, страшных, неизвестно от кого доставшихся в наследство вагонов. А бессмысленный грохот этой случайной сцепки надежд, мнений и страхов он называет своей жизнью. И нет никакого способа избегнуть этой судьбы.
– Ну отчего, – сказал Чапаев. – Способ есть.
– И вы его знаете? – спросил я.
– Конечно, – сказал Чапаев.
– Может быть, поделитесь?
– Охотно, – сказал Чапаев и щелкнул пальцами.
Башкир, казалось, только и ждал этого сигнала. Поставив фонарь на пол, он ловко поднырнул под перила, склонился над неразличимыми в темноте сочленениями вагонного стыка и принялся быстро перебирать руками. Что-то негромко лязгнуло, и башкир с таким же проворством вернулся на площадку.
Темная стена вагона напротив нас стала медленно отдаляться.
Я поднял глаза на Чапаева. Он спокойно выдержал мой взгляд.
– Становится холодно, – сказал он, словно ничего не произошло. – Вернемся к столу.
– Я вас догоню, – ответил я.
Оставшись на площадке один, я некоторое время молча смотрел вдаль. Еще можно было разобрать пение ткачей, но с каждой секундой вагоны отставали все дальше и дальше; мне вдруг показалось, что их череда очень походит на хвост, отброшенный убегающей ящерицей. Это была прекрасная картина. О, если бы действительно можно было так же легко, как разошелся Чапаев с этими людьми, расстаться с темной бандой ложных «я», уже столько лет разоряющих мою душу!
Вскоре мне стало холодно. Вернувшись в вагон и закрыв за собой дверь, я на ощупь пошел назад. Дойдя до штабного вагона, я ощутил такую усталость, что, даже не стряхнув с пиджака снежинок, вошел в свое купе и повалился на кровать.
Из салона, где сидели Чапаев с Анной, доносились их голоса и смех. Бухнуло открываемое шампанское.
– Петр! – крикнул Чапаев. – Не спите! Идите к нам!
После холодного ветра, продувшего меня на площадке, теплый воздух купе был удивительно приятен. Мне даже стало чудиться, что он больше походит на воду, и я наконец беру горячую ванну, о которой мечтал уже столько дней. Когда это ощущение стало абсолютно реальным, я понял, что засыпаю. Об этом можно было догадаться и по тому, что вместо Шаляпина граммофон вдруг заиграл ту же фугу Моцарта, с которой начался день. Я чувствовал, что засыпать мне ни в коем случае не следует, но поделать уже ничего не мог и, оставив борьбу, полетел вниз головой в тот самый пролет пустоты между минорными звуками рояля, который так поразил меня этим утром.
4
– Эй! Не спите!
Кто-то осторожно тряс меня за плечо. Я приподнял голову, открыл глаза и увидел совершенно незнакомое лицо – круглое, полное, окруженное тщательно ухоженной бородкой. На нем была приветливая улыбка, но, несмотря на это, оно не вызывало желания улыбнуться в ответ. Я сразу же понял, отчего. Дело было в сочетании этой ухоженной бородки с гладко выбритым черепом. Склонившийся надо мной господин напоминал одного из тех торгующих чем попало спекулянтов, которые в изобилии появились в Петербурге сразу же после начала войны. Как правило, это были выходцы из Малороссии, которых отличали две основных черты – чудовищное количество жизненной силы и интерес к последним оккультным веяниям в столице.
– Владимир Володин, – представился человек с бородкой. – Можно просто Володин. Поскольку вы решили в очередной раз потерять память, впору знакомиться заново.
– Петр, – сказал я.
– Вы лучше не делайте никаких резких движений, Петр, – сказал Володин. – Вам, пока вы еще спали, вкололи четыре кубика таурепама, так что утро у вас будет хмурое. Если вещи или люди вокруг будут вызывать у вас депрессию и отвращение, не удивляйтесь.
– О, – сказал я, – милый мой, я уже давным-давно этому не удивляюсь.
– Нет, – сказал он, – я имею в виду вот что. Вам может показаться, что ситуация, в которой вы находитесь, невыносимо омерзительна. Невыразимо, нечеловечески чудовищна и нелепа. Совершенно несовместима с жизнью.
– И что?
– Не обращайте внимания. Это все от укола.
– Попробую.
– Вот и отлично.
Я вдруг заметил, что этот Володин совершенно гол. Больше того, он был мокр и сидел на корточках на белом кафельном полу, куда с него обильно капала вода. Но самым невыносимым во всем этом зрелище была какая-то расслабленная свобода его позы, трудноуловимая обезьянья непринужденность, с которой он упирал в кафель длинную жилистую руку. Причем эта непринужденность как бы давала понять: мир вокруг таков, что для крупных волосатых мужчин естественно и нормально сидеть на полу в таком виде, а если кто-то думает иначе, то ему в жизни придется нелегко.