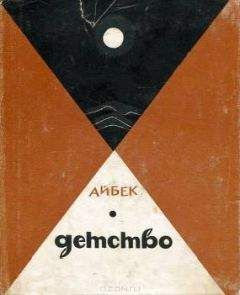Регина Дериева - Придурков всюду хватает
Ведомый озвереями, я вошел под мрачные своды национального сознания. Я не только ощущал себя узником, я был им, поскольку озвереи крепко держали меня за руки. Они бы и за ноги держали, но тогда им пришлось бы меня нести, а озвереи очень не любят тяжести поднимать. Встречные, принимая озвереев за ангелов-хранителей, сразу отворачивались и скромно сморкались, всеми своими соплями изображая невмешательство во внутреннюю политику. О внешней политике, кстати, тоже речи быть не могло, так как то, что творилось снаружи, никоим образом не отражалось на озверейских внутренностях. Сердца озвереев бились в унисон, души озвереев ликовали, умы озвереев мыслили по-научному, нервы у озвереев не шалили. И у всех была до того развита вторая сигнальная система (повеление — послушание), что прямо жутко делалось.
Как я не норовил выскочить из-под пресловутых сводов, избавиться от озвереев не представлялось возможным. И рукопись мою, брошенную, как Моисей в просмоленной корзине, на берегу национальной идеи, подобрала не фараонова дочь, а опять-таки озверейка. Все эти озвереи себе присваивали и с такими нечленоразделами, как я, управлялись в два счета. Насылали, например, египетские казни. Изгоняли, например, из рая коммунальной квартиры, а когда ты спрашивал «За что, мол, из рая», орали: «Вы что, в Караганду захотели?» О Караганде я, честно говоря, слышать не мог…
Тут меня и окружили озвереи, тут меня они и потащили под своды своего сознания, куда даже луч солнца не проникает, даже птица не залетает… И потребовали они от меня, чтобы я отрекся от догмата о папской непогрешимости.
— Кто же отрекается от Непостижимости и Недостижимости? — спросил я у них.
— Мы отрекаемся, и даже очень этим счастливы, — ответили они. — И тебе велим отречься во избежание последствий.
Но я не отрекся, а, наоборот, приготовился к лучшему, потому что тогда уже верил: с полной определенностью говорит один только Бог.
SYMPHONY № 6, ОР. 111
Всем понятно, а тем более внятно, что Васи, не говоря уже о Василиях, всегда хорошие. Всем понятно, что плохими им быть никак нельзя, поскольку плохих без них навалом и пруд пруди. Так что все положительно плохи, а Вася прекрасен, даже если он отрицательно хорош. Ведь какого Василия не представишь себе, какого не вообразишь (кроме Василия Темного, конечно), он всегда симпатяга. А представь себе кого-нибудь другого, какого-нибудь Женю, например, и сразу настроение портится, и никакого умиления ни в интонации, ни в желудке не наблюдается. Тьфу на него, на такого Женю, и еще раз тьфу!
Привез этот Женя в Озверятник андреевский флаг с автографом Андрея Первозванного и повесил его в туалете. А все потому, что к нему озвереи приходят и иконы заказывают. Мода такая теперь у озвереев, а Женя — иконописец. Дорого он за иконы берет, ссылаясь на то, что андреевские флаги, которыми он решил драпировать всю свою мастерскую, больших денег стоят. «Мне, — говорит, — русскому патриоту, флаги окупить надо, потому и пишу иконы для ненавистных озвереев. Мне, — говорит, — главное, для римских католиков икон не писать, даже если они Васи». Вот что мне сказала эта акклиматизированная бацилла, вот каким откровением она меня одарила.
Таким образом, все теперь знают, что из себя представляет имя Женя, а если этого примера мало, приведу еще один. Примеров у меня предостаточно, потому как я всегда пребываю в поисках. Кто, задумываюсь я обычно, мог бы стать очередным примером? Вроде маяка, который уже разрушен, но продолжает существовать в воображении Летучего Голландца… Искал я, искал и нашел такой оригинальный пример по имени Евгений.
Этот Евгений писал себе рассказы, хорошие, надо отметить, рассказы, но вскоре понял, что вдохновение — мимолетность, и всю свою умственную и физическую деятельность направил на то, чтобы стать одним из активнейших участников всемирных потопов. Где потоп, там, значит, Евгений активно спасается. Он для того и в Москву перебрался, и женился, и выбил себе жилплощадь в ковчеге, и стал дожидаться самого последнего всемирного потопа, весело потирая руки.
А я ничего этого не знал и, прибыв в Москву, имел неосторожность спросить о возможном ночлеге в его ковчеге.
— Евгений, — позвонил я с Казанского вокзала, — нельзя ли у тебя переночевать? Это я, Скобкин, — напомнил я ему, — ты еще восхищался моим талантом…
— Полностью исключено, — отрезал Евгений и повесил трубку.
И когда в телефонной трубке затрещало и замяукало, я ненадолго сошел с ума и побрел к Москве-реке. Синяя ночь все взвивалась и взвивалась кострами, враждебные вихри все веяли и веяли надо мной, но я все-таки сделал то, что сделал.
Достал я из внутреннего кармана пиджака коробочку, обтянутую малиновым бархатом, полюбовался в последний раз на дивный перстень ручной работы с бриллиантом в десять каратов, доставшийся мне в наследство от деда, принадлежавшего к знатному караимскому роду, и бросил его в мутную воду. А сделал я так потому, что хотел насолить Евгению, которому предназначал этот перстень в подарок.
— Это полностью исключено, — повторил я полюбившуюся фразу, отправляя перстень на дно речное, и вернулся на вокзал.
Там, на вокзале, я и провел большую часть своей жизни среди милейших людей, имеющих обыкновение отгрызать собственные головы всякий раз, когда им предлагали очистить помещение.
CINDERELLA, OP. 107
В Сибири, как писал когда-то папа одного большого ученого, пальмы не растут. Да, действительно не растут, но финики, к счастью, не переводятся. Знают местные жители, что такое финики, и даже пироги с ними пекут для поминального стола. У меня после одного такого угощения до сих пор Гарлем в животе, но что поделаешь, если люди хорошо относятся только к покойникам.
Где покойник, там и угощение, там и теплый прием. Не беда, если при этом на тебя, на нового гостя, смотрят, как на ящик Пандоры, откуда вот-вот вывалится на всех мировое зло. А ежели ты сам покойник, то им не до тебя, поскольку при усопшем принято вести себя пристойно. Говорить принято только хорошие и приятные вещи, так что при почившем особенно не разойдешься.
Другое дело — свадьба, где расходиться можно сколько угодно. Там даже надо куролесить, чтобы тебя с мертвецом не спутали и в ящик не затолкали. Сыграть в ящик, как вы понимаете, никому не улыбается. А улыбается сидеть за столом и щипать невесту за икры. Невеста смущается и визжит, родители скулят, гости лезут драться, а жених уходит в кусты. Он еще не знает, где возьмет себе другую невесту, но уверен, что где-то возьмет: может, встретит в кустах, а может, и в другом месте. Например, у него есть шанс встретить невесту в озверейском оазисе, где под arnica silentia lunae[6] и сенью финиковых пальм буквально никто не отдает поцелуя без любви.
THREE PIECES, OP. 59
1
«Ужасно все это», — думал я, в то время как озверей Колупайнен делал гробы. Да! Шорх-шорх, Колупайнен делал гробы, хотя к моим мыслям это отношения не имело. И к моему ужасу это отношения не имело, просто жизнь у меня ужасная. Настолько ужасная, что и гробов я почти не боялся. А Колупайнен, так тот их просто обожал.
— Люблю, знаешь ли, Вася, гробы делать, — скалился умелец, когда я проходил мимо сарая, в котором он, шорх-шорх, их делал.
— А для кого тебе их мастерить? — удивлялся я. — Тесть у тебя, старый ленинец, жив. Теща у тебя, дряхлая сталинистка, жива. Жена у тебя, средних лет феминистка, здорова. И дочь, которая уже с восьмым мужем места себе не находит, тем более… Не для кого тебе, Колупайнен, гробы готовить, а ты все не унимаешься, все шорхаешь и шорхаешь по ночам, пугая живых людей своими похоронными изделиями. Почему бы тебе ни сотворить что-нибудь веселенькое, полезное и радующее глаз?..
— А гробы и есть самое полезное, — панихидно ответил озверей, не прекращая работы. — Сегодня мой тесть жив, а завтра пойдет к Ленину. И что ему даст этот Ильич?.. Кто дождался от него хоть одного гроба?.. И теща моя пока жива, а завтра уже будет со Сталиным. Ей что, Хрущев пришлет гроб?.. Держи карман шире, дождешься ты савана от Фиделя Кастро!
— Ну а жене-то зачем?
— Чтобы она меня раньше себя не закопала, феминистка проклятая! — разволновался Колупайнен. — Так что гроб я ей готовлю по соображениям самого гуманного порядка. И гробов у меня не так уж много, если ты хорошенько припомнишь всех мужей моей доченьки.
— Федька Косой, — сказал я, — раз.
— Ян Просучарник, — сказал Колупайнен, — два.
— Цви Поскакакер, — сказал я, — три.
— Ганс Кляузнер, — сказал Колупайнен.
— Абдель Суицид, — сказал я.
— Ким На Кось Выкусь, — сказал он.
— Расстегай Летучий, — сказал я
— Агент Британской разведки Трупис, — сказал Колупайнен, — восемь. Ну!.. Мало у меня гробов, так что ты, Вася, не мешай.
И он, шорх-шорх, принялся опять за любимое дело, а я пошел в свои апартаменты, по которым после ухода незваных гостей носилась стая венских стульев, роняя спинки и перекладины.