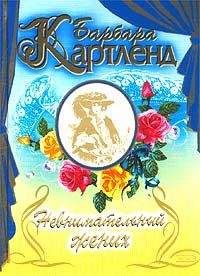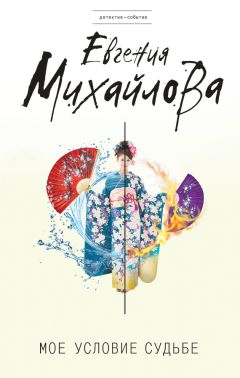Владимир Рыбаков - Тяжесть
Глядя на Волошина, я чувствовал его тихое отчаяние. Отраженный в его пьяных глазах, я казался маленьким и кривеньким. Он китайским болванчиком кивал в мою сторону. Махнув рукой, держа комок в кадыке, я вышел с желанием никогда более не увидеть Волошина. Вновь пораздавав папиросы в палатах веселым симулянтам и грустным, несмотря на отдых, больным, пошел к штабу, держа в потном кулаке надежду.
— Так. За документами и к начфину можете прийти вечером. И вот что, Мальцев, по прибы-тии из отпуска вы мне лично предъявите два железнодорожных билета — туда и обратно. И учтите, без фокусов, на этот раз губой не отделаетесь. Подпишите обязательство!
— Никак нет, товарищ подполковник, к сожалению, подписание подобных обязательств не предусмотрено уставом. Разрешите идти?
— Идите.
По навыку, приобретенному в учебке связи, нашел у одного москвича в военном городке телеграмму, посланную ему родителями. Оторвав телеграфные ленточки, полные поздравлений и поцелуев ко дню рождения парня, оттарабанил на телеграфном аппарате станции связи полка текст новой телеграммы, гласящей:
"Соня тяжело больна я в отчаянии необходимо твое немедленное присутствие Надя"
В семь вечера документы оттопыривали карманы гимнастерки, в вещмешке лежали две фляги спирта, несколько банок китайской тушёнки. У меня не было желания, подобно многим, одалживать для отпуска у ребят сапоги, ушанку и прочее. Так в своей старой длиннополой шинелёнке, к которой относился с неприкрытой нежностью, и отправился на станцию.
В полночь, к началу отпуска, был на владивостокском аэродроме. Патрули только покоси-лись на мою старую шинель, выражение лица служило лучшим доказательством присутствия в кармане отпускного листа. Билетов на ближайшие пять дней в кассах не было. Пошел к дежурно-му по аэропорту. Только завидев меня, утомленный однообразными криками ходатаев, толстяк-дежурный заворчал:
— Чего ко мне все лезете? У вас свой комендант есть, к нему и топайте. Нет мест. Нет.
— К вам иду, потому что комендант говорит, что много нас таких… Вы такого не скажете. Вот телеграмма. Я дочь свою хочу живой застать, а он не понимает.
Толстый дежурный поуспокоился, потянулся к бланку.
— Да, тут-таки не шутки. Ладно, хлопец, я поищу. Вылетишь в пять утра. Иди. Жди. В четыре приходи, и никому ни-ни, а то подумают, что я Дед Мороз.
Я вышел из кабинета чудесного толстяка, шел и улыбался встречным патрулям. Не было в эти минуты плохого ни во мне, ни в мире.
15
Я видел в мигающих огнях взлетающих самолетов, в реве невидимых сопел слова, то прыгающие в хаотичном веселье, то выравнивающиеся в спокойную и громадную радость:
— Свобода! Понимаешь? Свобода, говорю я тебе!
Мистическое слово. Древние говорили, что в нем ад и рай. Я видел в нем мгновение счастья, затем просто привычку. Или борьбу с привычкой быть свободным.
Я летел. Время тащилось, отставало и оставалось на востоке. Я блаженствовал в глубоком кресле «Туполева». Тысячи километров уходили назад, широкие, не подвластные никому, мощные. Благо? Зло? Не к чему было думать, знать…
Во время окружных учений в конце 1966 года нас, курсантов связистов-дальников, обеспе-чивающих кабельную связь между штабами армий, бросили на места прорывов танковых колонн (зарытый на полметра в землю кабель был беззащитным перед гусеницами танков, разворачиваю-щими размякшую осеннюю жижу). Мы с товарищем, нарубив хвороста, погасили в одном месте болото-землю и легли выжидая, положив возле себя длинные рогатины. Дорога, где был проложен кабель, пустовала до вечера. Наконец донесся постепенно заполняющий всё пространство шум моторов. Жижа, покрывающая землю, затряслась холодцом. Озябшие, мелкие под монотонно падающим дождем среди однообразной кочковатой земли, мы бросились к дороге, подняли кабель на рогатины, укрепили их и встали. Стояли, поддерживая их, ночь, утро, день. Танки всё шли с нескончаемым лязгом стали. Изредка бесшумно проскальзывали ракетные установки. Я был покрыт грязью, отбрасываемой гусеницами, и почти уже бесчувственными руками обнимал рогатину, на конце которой вместе с порывами ветра свирепствовал, вырывая ее из рук, кабель. Ребята, высовываясь из люков, подбадривали:
— Держись, паутина! Держись, всё ерунда по сравнению с мировой революцией!
И сонные губы как бы поневоле лихо отвечали:
— Давай, фанера, давай! Да смотри, столбы не ломай!
Я чувствовал себя частью этой катившейся мощи. Один Мальцев во мне — со своими мелкими желаниями, злобой, жаждой обрести какую-то свободу, стушевывался перед другим — усталым и гордым своей силой солдатом, каким я был в тот день, каким я, быть может, бывал на каждом учении, не отдавая себе в этом отчета. Кем я был тогда — милитаристом? Защитником родины? Не нужные никому слова…
Стюардесса улыбалась, подносила лимонад, потом бифштекс. Я крякал, запивая его спир-том. Угощал соседей. Расстегнутый мундир и небрежно брошенные на пол ноги создавали уют в мыслях, желаниях.
Скоро Москва. Денек у Алексея, а там махну в Ярославль к матери. Мысли перекинулись на старшего брата Алексея. Он теперь обеими руками голосует за отъезд во Францию, на "землю обетованную". А не он ли шестнадцать лет назад, шестнадцати лет отроду был членом ФКП, что значит «левым», потом убежденным сталинцем, что значит "правым левым", а теперь стал "правым правым". В сущности игра слов, которую неизвестно почему называют великими колебаниями души ищущей, находящей. Был коммунистом, стал антикоммунистом, остался же «правым». Холодный интеллектуал, по-детски недоверчивый к людям, колкий человек, глубоко чувствующий уколы других; гражданин, попытавшийся подвести моральную базу под законы страны, где он живет, и только добившийся инстинктивной борьбы со своей моралью. Мужчина и муж, часто любящий свою жену за безраздельное доверие к ней, и изменяющий ей лишь, чтобы занять чем-то стоящим свое самолюбие.
Внешне все это называлось "нервный лентяй" и "сексуальный маньяк". А в общем, мой брат — славный парень.
"Туполев" пошел на посадку. В такси я глядел прежними глазами на московскую толпу и сказал себе, что уровень жизни трудящихся неуклонно растет. Я скороговоркой мысленно произнес эту стандартную фразу, вошедшую в меня неизвестно как. "Не ведают враги наши об истинной силе пропаганды, не встречающей на своем пути ничего, кроме шкуры человека", — сказал мне один пьяный парторг.
Дверь открыла жена брата, Нина, любившая меня за то, что я брат ее мужа и ненавидевшая за то, что был знаком и даже дружен с его любовницами. Обняла и, радостно улыбаясь, повела в комнату. Алексей поднялся с дивана, насмешливо произнес:
— Ба, а я уж думал, что ты стал жертвой случайной необходимости.
— Ошибаешься, братец, борьба двух азиатских способов производства меня еще не съела. Как мать?
— Она уехала. Она в Париже. Можешь не дуться, ждать тебя она не могла, срок подходил к концу. Да и встреча ваша ничего б не изменила.
Во мне медленно всходило раздражение:
— Наверное. Просто забавно: в сущности то, что я здесь, — ваша работа: матери, твоя да папеньки нашего. Тот удрал через три года после приезда, мать — теперь, ты ждешь в тепле разрешения, и только я набиваю себе шишки, расхлебывая вашу бывшую мозговую путаницу.
Нина, ладная женщина с монгольскими глазами, звонко рассмеялась:
— Вот олухи! Будет вам лаяться! После двух годков свиделись и все туда же! Я вам сейчас водки подам.
Алексей сидел за столом развалисто. Разбавляя спирт водой, широколобый, ширококост-ный, — он с любопытством разглядывал зеленую солдатскую флягу. Его глаза с привычной печатью презрительного превосходства щурились.
— Надеюсь, ты хорошо служишь? Терпеть не могу хулиганства, политического в том числе. Нужно быть лояльным и ненавидя. У меня сегодня встреча с одним таким политхулиганом в «Минске» — ты, наверное, помнишь, ресторан возле площади Пушкина. С Федором Сагадаевым. Из лагеря не так давно вышел, хороший филолог, только тщеславный буян. И вообще знай, что в Москве и в Ленинграде настоящих интеллектуалов нет или почти нет, у них здесь нет времени стать настоящими: много ходят, много говорят, много буянят, думают же мало. Во Владимире, в Ярославле — там, в тихом омуте, черти сидят, тихо копят, по крупинке знание собирают, тяжелое русское знание, когда в одном рту необходимо для холодной истины жевать Запад и Восток. Там для них настоящая опасность. А буяны легки на подъем; мелкие перевоспитываются в лагерях, крупных уничтожают. Они мотыльки-однодневки, пауки же в тишине подбираются к шмелю. Это иносказание для тебя, младшей, чтобы поняли твои трепещущие под черепной коробкой жилки.
Мне вспомнился Свежнев:
— Сволочь ты, Алексашка, сволочь! Тебя-то что ждет на этом Западе?
— Правильно, сволочь! Сволочь, потому что ты прав. Ты можешь окрестить меня хамелео-ном, но поверь брату на слово, — гораздо важнее сейчас бороться против просоветского француз-ского коммунизма, чем против его учителя. Только настоящий русский интеллектуал-националист умеет ждать и видеть, как глыба власти себя разрушает, обливаясь то кипящей, то ледяной водой. Только он знает, что Знание и есть Время в политическом и преобразовательном понимании этого слова. Не понимаешь? Подрастешь — поймешь.