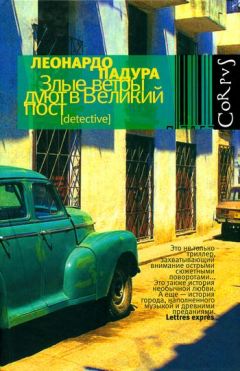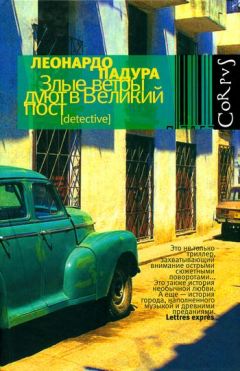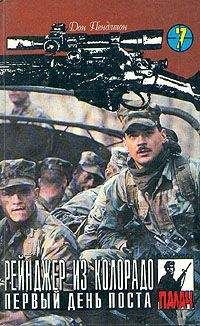Франсуа Нурисье - Причуды среднего возраста
Он вновь оказался во власти улицы. Как говорят: «Им опять овладела его болезнь». Уличный приступ, уличный припадок. А еще говорят (развязным, нагловатым тоном): «Ну что, на него опять накатило?» Чуть раньше, когда весь Париж сидел за трапезой, в час, когда с неба под прямым углом падают на землю солнечные лучи, не было никакой возможности спрятаться. Сейчас же извечный враг города может попытаться поиграть с ним в кошки-мышки. Уже появились островки тени, уголки, где можно замереть в полной неподвижности. Можно остановиться там и понаблюдать, как бьется в предсмертных конвульсиях дикий зверь. Все произошло очень быстро. Он поговорил с Луветтой и Зебером, только с ними. Их скептическая реакция не остановила его. Да и времени уже не было. По мере того как он говорил, употребляя такие слова, как «истощение» и «ваше присутствие», он все больше и больше утверждался в своем решении и понимал это. Они тоже это понимали; они смотрели на него и видели, что он уже не может пойти на попятный. По требованию Луветты он написал Старику письмо с извинениями. (Это его послание, многословное и неубедительное, есть не что иное, как чистейшая ложь, а потому выглядит так же жалко.) Настанет день, и очень скоро, когда ему придется держать за все ответ. В глубине души Бенуа не верит в трагический исход. Уже множество раз ему блестяще удавалось организовать свое собственное спасение… С должным ли почтением относятся окружающие к его недомоганиям, не пытаются ли преднамеренно делать то, чего он не выносит? Не подсиживают ли его? Конечно, возраст… Приближается час, когда уже больше не будет смысла поддерживать этот механизм, этот организм с тонкой психикой, который дышит на ладан. Вскоре он уже не сможет находить банкиров, готовых вкладывать в него свои капиталы. Потом, позже, придет бессилие, настоящее бессилие. А еще позже придет старость и тоже настоящая. НЕИЗБЕЖНО наступит время, когда Робер и Роже (какими они тогда станут, каких женщин возьмут в жены? Как будут меняться в лице, принимая «серьезные решения»?), его сыновья, займут его жизненное пространство, потихоньку вытеснят его из его собственной жизни, которая уже будет их жизнью, их всех, других, живых. Его же подтолкнут к выходу. НЕИЗБЕЖНО. Как он когда-то подтолкнул к выходу свою мать. Как она, в свою очередь, аккуратненько избавилась от своих родителей, заставив их страдать от одиночества в тишине комнаты с окнами во двор в доме престарелых. Одни только богачи… Сидеть на куче золота, иметь роскошный особняк в старинном парке, обставленный прелестными комодиками эпохи Регентства и увешанный восхитительными полотнами импрессионистов, иметь ренты, проценты, акции, министерский портфель, контрольные пакеты разных фирм, кубышку на черный день — только так можно выстоять. Богатые умирают вечно молодыми. Только их одних и уважают. Подлизываются к их приживалкам и к их доверенным шоферам. Томные, привыкшие повелевать женщины говорят, обращаясь к ним: «Господи, Бенуа, какая радость чувствовать вашу заботу!» Вот о чем следовало подумать, вот что следовало подготовить — такую вот назидательную картину: патриархальная и безбедная старость, медленный закат жизни в роскоши и неге. А вместо всего этого он беден так же, как и в двадцать лет. Житель большого города без гроша в кармане. «Вы ведь знаете, дружище, мы без вас как без рук». А потом нахмуренные брови Старика, бурное заседание совета, и вот уже Бенуа Мажелан за бортом. Суд, адвокат — близкий друг, который говорит вам: «Знаешь, приятель, на твоем месте я бы эти их предложения…» Ах, как это все отвратительно, как горько и невыносимо! Мне бы совсем не хотелось, чтобы наша история уподобилась дешевой мыльной опере. (Душа? Да, да, к ней мы еще вернемся. Не будем сваливать все в одну кучу.) Ну и что же мне останется? Моя мама когда-то говорила: «У меня остались глаза, чтобы лить слезы». Что за хрупкая вещь, наша жизнь. Короткая, строго отмеренная и хрупкая. Ранимость подростка, зубы молодого волка, опыт, плодотворная зрелость, следы усталости, последние остатки сил: что это? Неужто это все об одном и том же человеке? По телевизору нам показывают душераздирающие кадры. Приют. Комнатка с плитой и раковиной в углу за сто франков в месяц. Очередь к окошку в пункте социального обеспечения. Фокстерьер с ласковыми глазами. «И какую же сумму, мадам, вы можете ежедневно тратить на жизнь?» Это уже не шутки. Вид этих чистеньких старичков переворачивает душу: трогательный узел галстука, жилетка-болеро, лиса вокруг шеи, смиренный взгляд. Мне мог бы остаться Брей, могли бы остаться пять гектаров земли в Кальвадосе и два сына, которые идут своей дорогой. Мне могла бы остаться Элен. А еще коротенькие объявления в «Фигаро», время от времени то там, то сям какой-нибудь перевод и ожидание в приемных, где царят секретарши с блестящими коленками. Мне могло бы остаться лишь прошедшее время и условное наклонение, обозначающее действие, которое было возможным в прошлом, но так и не свершилось, мне могли бы остаться несколько накладывающихся одна на другую картинок, мимолетных, расплывчатых. Ну как можно быть таким легкомысленным! Один поворот руля — и от тебя уже мокрое место. Дорога нашей жизни пролегает меж глубоких рвов.
Он вновь оказался во власти улицы и печалей, так похожих на те, что одолевают его по ночам, когда не идет сон, и на те, что накатывают на него в кинотеатре, когда кровь приливает к лицу в липкой темноте зала на одиннадцатичасовом сеансе, когда с экрана льется смех и раздается грохот стрельбы и когда все вдруг начинает восприниматься как поражение, забытье, отстраненность. Ты замираешь и наблюдаешь за теми событиями другой жизни, что разворачиваются перед тобой (на улице, во сне, на экране), и задаешься вопросом, что бы это все могло значить. Все это: любовные интрижки и годы, снующие во все стороны прохожие. Где объяснение, в чем секрет? Еще подростком сидя в темноте зрительного зала или мучаясь бессонницей, он временами вдруг замирал от ужаса, доводившего его до головокружения: что будет завтра? «Вставать» — так говорят о восходе солнца и том движении в конце фильма, когда становятся видны зардевшиеся лица девиц, которых только что тискали. Их нужно видеть! Смогу ли я вынести встречу с прошлым, повернуть вспять свою жизнь, вновь делать подобающие случаю жесты, находить нужные слова? Все рушилось просто на глазах. Теряло смысл и значение. Ничто не приносило радость; спесь повыветрилась. Осталось лишь удивление от того, что ОН ВСЕ ЕЩЕ ЗДЕСЬ, оно было острым и непроходящим. Это же самое удивление постоянно одолевает его на улице, которая может казаться темной и мрачной в разгар солнечного июньского дня и безмолвной среди городского шума. Короче, способность удивляться всегда при нем. Еще совсем недавно он делал то, что от него ждали. Ему приходилось что-то объяснять, писать, говорить, подписывать. Он делал это, с трудом скрывая досаду и стараясь свести свои действия к минимуму. Все эти дела были слишком мелкими, чтобы удержать его. Однако он уступил. А теперь вот готов заартачиться, а его со всех сторон хватают за руки и дергают, его одолевает малодушие — а может быть, это смелость? — и вопрос: зачем все это? Это «зачем» такое неподъемное, что одинаково погребает под своей тяжестью «да» и «нет», покорность судьбе и ее противоположность. Он бежит, но надолго ли его хватит? Он едет к Мари, но любит ли он ее? Он сбрасывает свое ярмо, но что будет делать завтра вол со слишком нежным лбом? И это беглец? Вот это вот пугало огородное, слоняющееся по улице Севр, этот обломок кораблекрушения, все еще упорно пытающийся держаться на плаву просто по привычке? Витрины. Он задевает на ходу еще довольно молодых мам и их дочек. Девицы. Он смотрит на них, на этих девиц, он видит только их. Взглянув на них всего лишь раз, он сразу схватывает то, от чего у него заходится сердце: изгиб спины и шеи, угадываемую под одеждой наготу, некое движение тела, его хрупкость и бесстыдство, и ничто иное не существует для него и не имеет большего значения, чем тот огонь, что разжигает в нем вид женского тела. Как же он смешон, этот здоровенный рыжий детина, который притащился сюда и слоняется с таким видом, будто только вчера его выгнали с работы или от него ушла жена. И это любовник? Низвергатель тирании? Дайте ей посмеяться вволю, этой загорелой девочке, поймавшей на себе его взгляд, дайте посмеяться чьей-то невесте, чьей-то дочери, студентке, жительнице Отея, такому вот ангелочку, любительнице фигурного катания и верховой езды. Завтра какие-нибудь придурки будут лезть к ней под юбку. Их руки. Их губы. Завтра будет жаркое дыхание и острое желание отдаться. Завтра громко зазвучит вечная песня жизни. «Ну и тип! Видала? Это что-то невозможное!» И это сокровище, задрав нос, удаляется горделивой танцующей походкой — твоей походкой, Мари, такой походкой, какой ты шла под солнцем Трувиля, ТВОЕЙ походкой, ТЫ шла… Кто это решил посмеяться надо мной? Как они попытаются уничтожить меня? — сокровище проходит мимо и уже блещет вдали на перекрестке Красного Креста, пока Бенуа, вросший в землю перед зеленым газетным киоском, покупает «Франс — суар», чья свежая краска оставляет черный след на его руке.