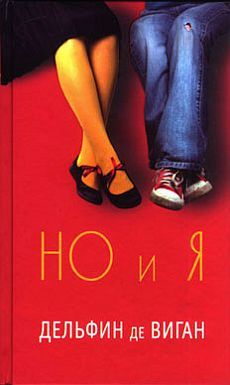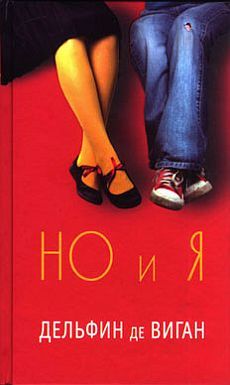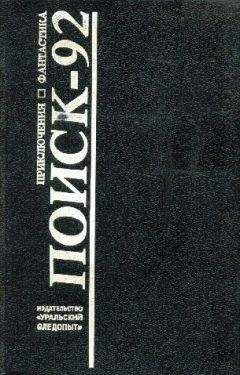Дельфин де Виган - Отрицание ночи
В течение нескольких месяцев, пока Люсиль встречалась с Ниелем, они успели посмотреть фильм об Эдварде Мунке, выставку немецкого экспрессионизма, выпить много вина и обсудить все на свете в тиши длинных ночей. Ниель разделял глубокое отчаяние Люсиль, и она могла рассуждать с ним о суициде. Мы узнали об этом позже. Тем не менее рядом с юношей, одержимым идеей смерти, Люсиль обрела подобие внутреннего покоя и гармонии. Я бы назвала союз мамы и Ниеля итальянским словом morbido, чье значение совершенно не совпадает с французским «morbide» (патологический). Для меня, не владеющей итальянским языком, перевод слова «morbido – нежный» стал открытием. Мне кажется, Люсиль и Ниеля связывало неоднозначное чувство: мама испытывала облегчение, зная, что рядом с ней человек, которому так же плохо, как ей самой.
Однажды накануне очередных выходных Ниель маме не позвонил. Люсиль набрала номер Жюстин в Кламаре. Жюстин сказала, что все разъехались по случаю Пасхи, Ниель остался, но она его не видела. Через какое-то время взволнованная Люсиль позвонила снова и попросила сестру проверить комнату Ниеля. Жюстин на пятом месяце беременности поднялась по лестнице и открыла дверь в комнату Ниеля. Он лежал на кровати с простреленной головой. В возрасте двадцати одного года юноша сунул дуло пистолета в рот и нажал на курок.Люсиль присутствовала на похоронах. Ниель ушел из нашей жизни столь же внезапно, как в ней появился.
Каждый вечер после работы в полном одиночестве Люсиль курила травку, дурь (я рано узнала эти слова), которую прятала в железной розовой коробочке.
Манон, часто наблюдавшая, как мама делает самокрутки, однажды спросила, что это такое. Люсиль ответила, что это большой секрет, о котором никто не должен знать.
В классе учителя рассказывали нам об опасности наркомании. В нашей школе проблема стояла остро, примеров пагубной зависимости вокруг было хоть отбавляй, поэтому даже тексты для диктантов мадам Лефевр нам выбирала на тему наркотиков – например, о том, как пса-контрабандиста задержала полиция. Я чувствовала себя отвратительно, представляя долгие часы, которые мама проводит в забытьи. Ведь каждый вечер, каждый вечер, едва войдя в дом, она запиралась в своей комнате. Мы не имели права обращаться к ней до тех пор, пока она не покурит за закрытой дверью.
Вскоре ситуация стала невыносимой.
Я будила маму по утрам, я волновалась о том, не опоздает ли она на работу, я кричала, потому что мама с нами не разговаривала. До того момента Люсиль оставалась моей мамой, не похожей на других мам, самой красивой, самой загадочной. Однако теперь я почувствовала, какая пропасть нас разделяет, я начинала смотреть на маму со стороны, чужими глазами, глазами школы, глазами общества, которое требовало от нее исполнения материнского долга.
Я пыталась вообразить идеальную мать – обеспеченную благородную даму, которая беспокоится о морально-нравственном облике своих детей, о безупречном порядке в гостиной, о том, чтобы посудомоечная машина была загружена вовремя, о том, чтобы еда была вкусна и разнообразна, пыль вытерта и, разумеется – уличная обувь оставлена в прихожей (в доме – только тапочки!). Идеальная мать не одурманивала бы себя каждый вечер, готовила бы завтрак, прежде чем разбудить дочерей, собирала бы их в школу и улыбалась бы на прощанье мягкой нежной улыбкой.
Я бунтовала не так, как другие дети, я просто хотела нормальную семью. Я мечтала об упорядоченной, скучной, отрегулированной жизни, столь же понятной и нерушимой, как геометрическая фигура. Меня одолевал смутный, но с каждым днем растущий страх. Я отдалялась от Люсиль (или это она от меня отдалялась?), я злилась на нее за то, что у нее нет воли.
Однажды в воскресенье Люсиль отвела нас в театр – посмотреть, как Мило играет слугу в пьесе Мольера. После спектакля мы отправились поздравлять Мило; я, не отрываясь, глядела на его упругие крупные букли, точь-в-точь такие, как у коллекционных кукол – они взлетали вверх, когда Мило говорил.
В другое воскресенье я ходила с Люсиль на блошиный рынок Сент-Уэн, где мама купила кое-какую кухонную утварь.
Через выходные мы ездили в Нормандию, где поселился Габриель. Сначала Люсиль подбрасывала нас на машине до вокзала Монпарнас. Затем мы стали добираться самостоятельно. В поезде мы читали или играли. Габриель забирал нас на машине в Верней-сюр-Авр. С отцом мы попадали в совершенно иной мир – в мир чистого воздуха и безукоризненного порядка, которым правила папина новая жена.
Поскольку Люсиль и Габриель не желали даже поговорить по телефону, вся информация, касающаяся школьных каникул, расписания поездов и разработки маршрутов проходила через меня: «Мама говорит, что; папа предпочел бы; мама не согласна с тем-то». Когда родителям случалось все-таки напороться друг на друга по телефону, Люсиль вешала трубку на середине разговора и заливалась слезами.
Однажды весной Мило умер. Он ушел в лес и выстрелил себе в голову. Я не сразу оценила масштаб катастрофы. Когда я рассказала папе, он попросил к телефону маму. Впервые в жизни мои родители спокойно говорили и мама ничего не выкрикивала. Про себя я благодарила Мило за это чудо. Спустя несколько дней мы отправились в Пьермонт – на погребальную мессу. В тот день мне стало ясно, что моя семья существует в мире боли.В последующие недели я волновалась за Люсиль еще больше. Страх не покидал меня, порой у меня даже перехватывало дыхание. Я не знала, о чем свидетельствует мой страх, но мало-помалу расшифровала его: я боялась найти маму мертвой. Каждый вечер, поворачивая в замке ключ, я думала: а вдруг, вдруг она тоже это сделала? Страх превратился в навязчивую идею. Входя в квартиру, одна или в компании Тадрины, я сразу смотрела на ковер в гостиной (мертвецы ведь обычно на полу лежат), затем проверяла мамину комнату и наконец – могла вздохнуть с облегчением.
После похорон Мило Люсиль взяла ядовито-красную помаду и написала на зеркале в ванной комнате: «Я не выдержу». Каждое утро мы с Манон причесывались перед этим клеймом смерти.
Иногда по вечерам, когда моя сестра с друзьями возвращалась позднее нас, мы с Тадриной подкарауливали Манон у двери и пугали – любимое было занятие, наряду с шуточками по телефону, танцевальными конкурсами, переодеванием кукол Барби, игрой в пробники духов (всего мы собрали на двоих четыреста штук) и в продавщицу в парфюмерном магазине. Однажды мы спрятались в шкафу в прихожей. Манон со своей подружкой Сабиной вернулись домой и сели полдничать, тем временем мы стали угрожающе скрипеть дверцами шкафа и подсвистывать. Девочки на цыпочках, вне себя от ужаса подкрались к шкафу, а мы зловеще демонически расхохотались. Подружки завопили от страха и бросились вон из квартиры – звать на помощь папу Сабины. Папа не поленился зайти, достать нас с Тадриной из шкафа и пристыдить – мы что-то пролепетали, краснея за свой позор…
Позже Манон упрекала меня за террор. Наверное, мне просто хотелось, чтобы она тоже боялась, как я, чтобы она прекратила быть беспечной и легкомысленной, чтобы она разделила мое отчаяние. А может, я просто завидовала Манон – в отличие от меня, она сохранила близкие отношения с мамой.
Когда мама не готовила обед, мы устраивали себе «бельгийский ужин» (горячий шоколад и хлеб с маслом). Позже одна подружка сказала мне, что у нее это называется «швейцарский обед».
В нашей семье каждый занимался своими делами. Мы даже телевизор вместе не смотрели. Люсиль отказывалась его покупать.
Иногда по вечерам Люсиль ставила свои любимые пластинки: «Bella Ciao» (песни итальянских партизан), Чика Кориа, Арчи Шепп, Гленна Гульда. Песня Жанетт «Потому что ты уходишь» из фильма «Выкорми воронов», который мы видели вместе с мамой в кино, стала гимном нашего дома. Образ Джеральдины Чаплин так и стоит у меня перед глазами. В детстве я все время думала: а вдруг мама умрет от печали такой же кровавой тихой смертью?
Когда мне исполнилось двенадцать, у моего отца и его жены родился мальчик. Я надеялась, что жизнь Гаспара окажется более простой, чем наша. Мы любили возиться с малышом, менять ему подгузники, давать бутылочку с молоком, смешить его. Мы невероятно радовались его первым шагам.
Однажды на выходных я рассказала Габриелю о своем беспокойстве за Люсиль. Думаю, тогда я впервые произнесла: я боюсь, что она покончит с собой. Отец принялся выяснять причину. Я рассказала ему об одиночестве Люсиль, об усталости, о том, что она курит травку часами напролет.
В поезде по пути домой меня мучила совесть – я выдала маму с потрохами.
Мои отношения с Люсиль окончательно испортились, когда она обвинила меня в краже заветной коробочки с дурью, которую, по ее словам, я всучила отцу, чтобы тот использовал наркотики против Люсиль как вещественное доказательство материнской несостоятельности. Спустя несколько дней мама отыскала коробочку, которую сама же и спрятала, и принесла мне извинения.