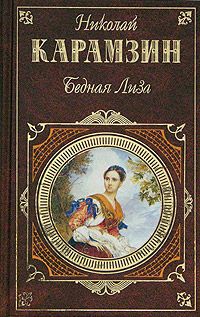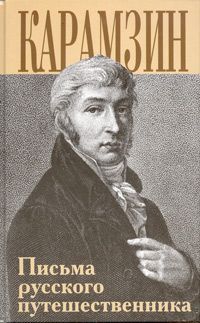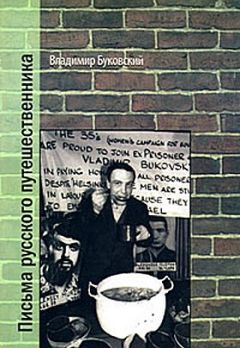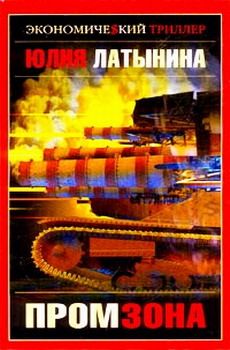Андрей Рубанов - Тоже Родина
Не знаю, почему, но дети при нашем появлении поспешно ретировались. Вероятно, двое пьяных дядек с мрачными байроническими физиономиями и сигаретинами в зубах, карабкающиеся, несколько неловко, но все же в хорошем воровском стиле, через чугун ограды, — обоим по тридцать шесть (пора на дуэль, но где Дантесы? — не замечены; в тот год после трехсот граммов я был готов пятерых сразу приморить, Дантесов), рубахи по моде десятилетней давности — обломали им их детский кайф.
— Чувствую себя дома, — объявил Семен и уселся на гранитный постамент. — А ты?
— Как-то я подпил в компании отца, — сообщил я. — Он всю жизнь проработал школьным учителем. И сказал ему: папа! Ты вот обижаешься на государство, а того не понимаешь, что ты нужен государству прежде всего как эксперт, выявляющий потенциальных Ломоносовых. Гениев, желающих приехать в столицу с рыбным обозом. Чтобы продвинуть науку и культуру. Ты, — говорю я папе, — сорок лет в школе. Скольких Ломоносовых лично ты выявил и отправил с рыбным обозом?
— И что он ответил?
— Одного, — мрачно произнес я.
Опять же, из дверей факультетского здания должны были выскочить дюжие охранники и немедля изгнать двух пьяных мудаков со двора высшего учебного заведения. Но не выскочили. Впрочем, даже если бы и выскочили, мы бы им все объяснили.
Мы тут учились. Нас тут учили.
Как это часто бывает с пьяными (да и с трезвыми тоже), приступ бурного веселья сменился меланхолическим молчанием — таким, когда лень не только разжимать губы и разговаривать, но даже и думать, а хочется только грустить. Зеленоватый самородок тоже безмолвствовал и выглядел не как памятник себе, а как памятник нашей молодости. Слишком много эмоций пережито было здесь, на этом гранитном пятаке у подножия зеленоватого Ломоносова, возле дверей факультета.
Предались воспоминаниям. О чем говорить? Мы прошли через одни и те же жернова. Когда-то, пятнадцать лет назад, мы вибрировали от пиетета к этому месту. Мы желали стать здесь своими столь страстно, что разум темнел. Абитура, вступительные экзамены, и восторг победы — приняли! Зачислили! Я студент престижнейшего вуза! Я в дамках! Я лучший! Приобщен к элите! Московский университет — это бренд, статус, уважаемая во всем мире контора! Смешно, но иные записывали в тетрадки даже вступительные лекции, разглагольствования популярного доцента Славкина. «Я обращаюсь к прекрасной половине человечества, то есть к мужчинам». «Вы есть отрыжка системы советского среднего образования». И так далее. И не только записывали, но и цитировали друг другу, и приходили в восторг от такого свободомыслия, от неортодоксальности, от интеллектуальной раскованности.
Эйфория была запредельной. Нас шторило и штормило. Что может быть слаще, нежели статус студента МГУ, когда на дворе тысяча девятьсот восемьдесят шестой год?! В стране проживает двести тридцать миллионов, конкурс — семнадцать человек на одно место, а ты — победил, ты сделал всех, и теперь вкусишь высшего знания, преподанного величайшими мудрецами этой земли. Перспективы ошеломляли. Мечты становились реальностью. Англичанин, зачисленный в какой-нибудь Кембридж, менее счастлив, чем первокурсник Московского университета. Француз, пробившийся в Сорбонну, в сто раз менее счастлив. Я избранный, твердил себе каждый из нас, я угодил в команду счастливчиков, и не потому, что мне повезло, и не потому, что мой папа за меня заплатил, а потому что я и есть достойнейший, журналюга божьей милостью, и ныне впереди у меня дорога на самый верх, я стану корреспондентом ведущих газет, репортером намбо уан.
А потом — Хэмингуэем.
А студенты? Был студент Костя Горшков, внешне — копия молодого Маяковского, в качестве обуви он предпочитал кирзовые сапоги; будучи слушателем журфака, посещал еще лекции в историко-архивном и в институте культуры. Он ходил на профессуру, как девчонки ходят на актеров или рок-звезд. Он говорил, что не простит себе, если не послушает лекцию того или иного профессора, потому что когда эта, старая, профессура умрет, с нею умрет и Знание.
И на нашем факультете были хранители Знания. В частности, легендарный Ковалев, расхаживавший в академической ермолке. Однажды он меня похвалил. Я сдавал ему экзамен и ловко ввернул, что, мол, у Некрасова «порвалась цепь великая», а у Чехова лопнула струна, но сие есть явления одного порядка и характера, и великий Ковалев задумался, подняв очи горе, и промямлил, что мысль интересная.
Здесь впервые объективно оценили мои интеллектуальные усилия, и на титуле моей первой курсовой работы, посвященной американской контркультурной прозе, остро отточенным карандашом начертали:
НЕ ВСЕ ПРОРАБОТАНО, ЧТО ЗАЯВЛЕНО
Почти двадцать лет минуло, а я до сих пор живу с этим диагнозом.
Хочу, стремлюсь говорить о главном, об основополагающем. О смерти, о любви, о красоте, о свободе, о пороках и страданиях — но всякий раз грешу легковесностью и скоропалительностью суждений. Глубоко ныряю, да быстро выныриваю.
Здесь впервые одернули меня и поставили на место. Был тогда такой мощный и модный репортер Невзоров, создатель программы «600 секунд», король криминального сюжета. Его работу я назвал «некротической журналистикой», но меня мягко поправили. Слишком сильный термин, молодой человек. Потом я много думал. Оказывается, термины бывают слишком сильными. Разве краткая словесная формула бывает чересчур сильной? Оказывается, бывает. Хочешь научиться припечатывать одним словом — учись, припечатывай, только знай меру; помни, что словом можно убить.
Здесь впервые познал я позор. Доцент Татаринова не приняла у меня экзамен по древнерусской литературе, предложила прийти в другой раз. На повторной сдаче мне достался протопоп Аввакум, я прочел его в четырнадцать лет и наиболее сильные места знал наизусть. Хорошо, милостиво кивнула доцент, узкой сухой рукой поправляя благородные седины, а какой билет вы не сдали в прошлый раз?
— Ну, — ответил я, — вы завалили меня на «Повести временных лет».
Татаринова побледнела.
— Что? Я — вас — завалила? Как вы смеете? Вон отсюда!
Ну, я побрел вон. А хули делать, господа? Протопоп, выученный назубок, мне не помог. Древнерусскую литературу я сдал только с третьего раза.
Здесь впервые объективно оценили мой слух. Я сдавал античку. О муза, воспой Одиссея, Пелееева сына. Я кое-что знал, шел как минимум на четверку, но в середине моего прочувствованного монолога мне посмотрели в глаза и спросили:
— Что-то пишете?
Я осекся. Каждый день с восьми утра до пяти вечера я работал в строительной бригаде. Естественно, писал. Повесть о жизни. Круто, знаете ли, работать на стройке, где каждый второй — алкоголик, не умеющий забить гвоздя без предварительно выпитого стакана, а каждый первый — отсидел. И одновременно с этим зубрить античную литературу. О муза, воспой Одиссея, Пелеева сына. И параллельно сочинять повесть.
— Да, пишу, — отважно признался я.
— Что-нибудь процитируйте. Фразу, две. Мне интересно, есть ли у вас слух.
Я что-то промямлил.
— Нет, это не интересно. Невкусно. Неярко. Не играет.
Я стушевался.
— Ставлю вам четыре. Всего доброго.
Моя учеба окончилась драматически. Возвратившись из армии, я восстановился, одновременно переведясь из телевизионной группы в газетную и с вечернего отделения на дневное. Мне посчитали «разницу». В течение года я сдал дополнительно несколько десятков экзаменов и зачетов. Все сдал, все выучил, не сдал только один незначительный зачет. Не успел, сил не хватило. Мне назначили повторную сдачу, я не явился — и был отчислен. Сейчас вот я думаю: сидят же в учебной части какие-то взрослые люди, администраторы, и отслеживают учебный процесс. Вот они видят студента, вернувшегося со срочной службы, желающего и умеющего учиться, и учащегося с утроенной энергией. За два года, повторяю, я сдал в три раза больше предметов, чем любой другой. И вот этот рьяный студент, сдав тридцать предметов, вдруг буксует на одном, последнем зачете, в полушаге от финиша. Нет бы спросить: слушай, парень, что с тобой происходит? Учился-учился, грыз гранит, и вдруг такой провал. Может, разочаровался? А не жалко тебе твоих усилий? Неужели не соберешься с силами и не закончишь то, что начал?
Сам я тогда, в свои двадцать два неполных, не очень понимал, что мне нужно, зато четко видел, как мои родители, заслуженные учителя, еле-еле зарабатывают на хлеб.
Понятно, что высшее учебное заведение — не детский сад, туда приходят взрослые или почти взрослые люди, они сами делают свой выбор, с ними никто не нянчится, никто не воспитывает. Не желаешь учиться — иди с богом. Но все же, все же какой-то момент понимания и сопереживания — неужели он не возник в головах функционеров, чья обязанность заключалась в производстве для нужд страны грамотных специалистов?