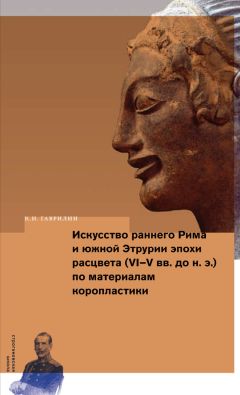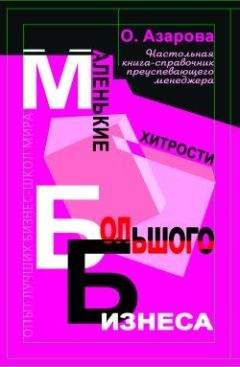Хуан Онетти - Короткая жизнь
Браузеном я был, когда мы улучали мгновение, чтобы взглянуть друг на друга, и молчание наше прерывали только Кекин вздох, короткое «да» или непотребное слово. И оживал, когда вдали от будничных смертей, от уличной давки, от деловых встреч и необоримой профессиональной приветливости чувствовал, что голова моя покрывается рыжеватым пухом, а сквозь очки и сквозь окно кабинета Санта-Марии вижу площадь и пристань, солнце и ненастье, и неизвестное мне былое гладит меня по спине.
XX
Приглашение
Толстуха, не очень толстая, но тяжелая, подбоченилась и засмеялась, стоя в дверях кухни.
— Отпустите ее на минутку? — ласково спросила она. — Я только одну штуку забыла.
— Пожалуйста, я не держу, — сказал я.
— Вот и ладно! — засмеялась Толстуха. — Только, чур, не слушать.
Ни лицо ее, ни голос, ни смех не вязались с наглым и настороженным блеском глаз.
Кека пошла в кухню, а я остался один, поневоле стесняясь, что лежу голый до пояса. Протянув руку, я достал бы рюмку джина или включил бы вентилятор на столике; а мог и тихо лежать, вдыхая теплый воздух комнаты, запах постели и тел, недавно делавших то, что им положено.
Весна уже была в полном разгаре, и часто выпадали сухие, жаркие дни. Густые сумерки спускались со слишком чистых небес, заполняли город, разливались среди зданий, касались улиц и стен, ощутимые, словно дождь. Воздух пропитали испарения потных промелькнувших теней, мгновенных вспышек гнева, быстрых мыслей, любовных клятв, грозных слов и винного перегара. Вдыхая его, я мог восстановить лица и фигуры, услышать фразы, устное предание, перешедшее от Сима к Арфаксаду, от Арфаксада к Сале, от Салы к Еверу, от Евера к Фалеку.[7] Нетрудно было различить эти звуки сквозь грохот мира, уловить слухом: «я страдаю, а ты меня мучаешь», «о, если б господь поразил меня, пока мы с тобой в постели!», «будь что будет, пропади все пропадом», «за что нам такое счастье», «иногда я хочу убить тебя, иногда — чтобы ты меня убила». Голоса и фразы рвались из пыли на ковре, из стен, из темных мест под мебелью, страшась и смеха, и сквозняка, но готовые ждать, пока их воскресят жалобные или невинные губы, пока их увидят и откроют по-новому глядящие глаза.
Мелкие, шустрые, беззаботные, навязчивые создания, которые пугали и пленяли Кеку, как только она оставалась одна — знаю, что никого нету, никто со мной не говорит, останусь ночью одна, они тут как тут, шуршат, шепчутся, мелькают, прямо голова кругом. На меня ноль внимания, и говорят не про меня, а пришли все-таки ко мне, и, если я их замечу, не уйдут, не замолчат, но притихнут, — существа эти, должно быть, оседали здесь вместе с потом, страхом и ложью гостей. Наверное, требовалось присутствие двух-трех женщин или мужчин, тогда одно маленькое чудовище обретало голос и место. А может, требовался еще приступ животного страха смерти или покаяние в забытой пакости, которую Кека совершила не здесь. А может, еще и жизнь, и шепот, и липкая привязчивость этих тварей рождались, при всем прочем, из полного отчаяния тех минут, когда жизнь представлялась Кеке безжалостной издевкой, выдуманной кем-то, чтобы ее унизить.
Как бы то ни было, каждый из шустрых и говорливых карликов происходил от многих родителей. Жарким вечером лежа в кровати и слушая, как течет вода из крана на кухне, я узнал одного — хорошо одетого, неуклюжего толстяка, осторожно курившего дешевые сигары и сумевшего вовремя уйти отдел. Видел я и молодого человека в ботинках на толстой подошве, в модном костюме, к которому был хорошо подобран галстук. Видел и другого, лет пятидесяти, который носил перчатки и перламутровые запонки, платил мало, но после соития бормотал в полутьме что-то романтическое. Видел мальчишку, увлеченного политикой — почти всегда это был еврей, — нетерпеливо или методично объяснявшего, почему он должен разрядиться именно здесь, у Кеки. Видел солидного господина с улыбкой и седыми висками, знатока жизни и женщин, чьею единственной роскошью была шелковая рубашка. Видел еще одного — Кека тихо лежала, а он курил, окончательно решаясь и пытаясь поверить, что еще сможет себя оправдать. Видел зануду, и весельчака, и наглеца, и смиренника, и невера, и меланхолика — словом, видел всех, кому суждено умереть без погребения.
Потея в постели, в полуметре от пола, и глядя на босые ноги, торчавшие за краем кровати, я снова понял, что дышу этим воздухом, что мертвые воспоминания бессильны, что след их искажен. Погруженный в воздух Кекиной квартиры, я мог смеяться без причин и без жалости, забыв о долге и о других именах зависимости.
— В девять, — пропыхтела Толстуха.
Я отхлебнул глоточек и подождал. За окнами мерещились печальные равнины, поросшие короткой желтой травой, которую треплет и пригибает сухой ветер. Первой вошла Толстуха, наполовину прикрывая веселой, широкой мордой разрумянившееся и невыразительное лицо своей подруги.
— Наконец-то, — сказал я, думая, что это им понравится.
Кека подошла к кровати, сложила руки на животе и нежно, по-матерински смотрела на меня.
— Ну и лодырь! — сказала она. — Ну и мужик у меня, прямо живет в постели!
Опустившись на колени, она стала целовать меня в шею, говоря что-то мне в ухо, а потом — белой спине наводившей марафет подруги. Она почти пела, почти растворяла слова в детской напевности, то холодя, то грея мне кожу своим дыханием.
— Пойду-ка я лучше, — сказала Толстуха. — Раз уж вы начали… В понедельник позвоню.
— Или во вторник, — сказала Кека, кусая меня за ухо. Она не разжала зубы, и слова ее будто приплясывали во рту.
— Значит, в кино пойдете… — сказала Толстуха, поправляя шляпу перед зеркалом.
— Может, пойдем, а может, нет, — проговорила Кека.
— Что ни надену, толстит, — кокетливо сказала Толстуха. — Представляешь, сегодня я видела трех женщин потолще меня, а мясник меня чуть не обсчитал. Забыла тебе рассказать.
— Мы пойдем перекусим, дома ничего нету. — Кека выпустила мое ухо, засмеялась и стала обцеловывать мое лицо от виска до подбородка и до другого виска.
— Так вы ни в какое кино не пойдете, — благодушно и покровительственно сказала Толстуха. — Уже семь часов. Бегу.
Кека встала, чтобы поцеловать ее напудренную морду.
— Побрейся и научись гостей привечать, — крикнула мне Толстуха.
— Нет, как чешет, — сказала Кека, вернувшись, распахнула халат и подвигалась, чтобы охладить голое тело. — Подруга она хорошая, это да. Если мы идем в кино, надо бы прибрать. Позвони-ка на угол, чтобы принесли сигарет и джину. Вино к обеду у нас есть, хотя обеда нету. Ну, значит, джин, если хочешь. И сигареты кончились. У тебя в пиджаке не осталось?
Она с улыбкой взглянула на меня — я улыбнулся ей в ответ — и стала обмахивать ноги полой халата. Халат этот, обшитый зеленой и розовой бахромой, был очень хорош утром, когда веселые полоски мягко играли в солнечных лучах. Кека ушла в кухню и вернулась. Пробуя поймать ее взгляд, я видел губы и левое колено, высовывавшееся из-под халата, когда она двигалась. Вожделение и ревность охватили меня. Закат за шторами умер; нестойкая и густая синева в верхней части окон возвестила о том, что начался вечер. Кека включила торшер, непрестанно говоря, почесала за ухом, прикидывая, велик ли беспорядок, и разостлала на полу газету, чтобы вытряхнуть туда пепел из пепельницы.
— Нет, ты представь, какой дурак, ему брюхатые нравятся. Мне Толстуха говорила. А ты что, думал, я беременная? Платье, наверное, вздулось или живот. В жизни детей не заведу. Толстуха говорила, они с сыном живут в одной комнате, и она выдумывает всякое, ну, что это доктор пришел. Только сыну лет шесть-семь, сам разбирается… — Она унесла в кухню пакет мусора, принесла тряпку и стала вытирать пыль. — Если женщина любит мужчин, это хорошо, без этого нельзя. Но бывает такое… Представляешь этого ангелочка! Нет, истинно с ума посходили. Ты не смейся, что я всегда так говорю. Ты представь. Мать — это тебе не шутка. Даже если ребенок у нее от того самого типа и носила она его месяцев семь… Это уж, знаешь… Не заведу я детей, и не думай. Свяжут — не развяжешься. Ты на угол позвонил? Вечно все самой надо делать, их превосходительство не двинутся.
Может быть, они встречаются сегодня, и Толстуха смотрит на часы, тыкая белой пуховкой в лоснящийся нос. Кека позвонила, все заказала, села на кровати и укусила меня в плечо.
— И с чего это я джин люблю, — сказала она. Распущенные грязноватые волосы пахли и чем-то горьким, и духами. — Наверное, из-за тебя привыкла, а теперь без него не могу. Что поделаешь? Как с тобой познакомилась, совсем сбрендила, что ни день, то хуже. Одно мне не нравится — курить не хочешь. Я часто думаю, и как я раньше жила.
Она взяла у мальчика из магазина бутылку и сигареты, потом принялась снимать с этажерки книги (их было мало) и вытирать тряпкой. Я смотрел, как изгибаются на ее заду полосы халата, как свисают пряди с маленькой головки, и жалел ее за то, что она так истово служит фальши и обману, и восхищался, что она становится божеством мимолетных, грязных мгновений жизни, и завидовал дару, обрекавшему ее каждый миг создавать полумифических тварей — эти сомнительные воспоминания и персонажей, которые обращаются в прах под любым скучающим взглядом.