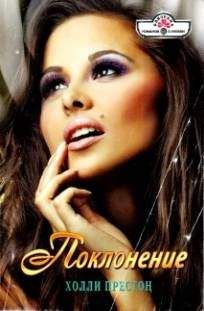Иван Зорин - Дом
Огромная кровать, на которой недавно была Катя, и от этого мне немного стыдно и злорадно, наше осквернённое ложе, на котором ты с детской отрешённостью раскинула руки поверх простыни, точно сдаваясь, точно выбросив этот белый флаг, и слова, такие же бессмысленные, как и наяву, слетают с твоих уст. Кажется, я вижу сны, скользящие по ту сторону век, ты покорна, и я могу прикоснуться к тебе, но между нами лежит меч, выкованный из упрёков, недомолвок, обид — всего того, что входит в состав лжи. Но главное — ты вернулась, и теперь всё пойдёт по-прежнему: повернётся скрипучее колесо, качнётся маятник, продолжится наша жизнь. «Ты вернулась», — ворочаю я ватным языком, прежде чем погрузиться в отдельную кабину сна, и мне любопытно, что ты видишь в своей. Но это навсегда останется тайной, ведь тебя больше не разбудить. Твой кофе отдавал снотворным, лошадиная доза под занавес любовной истории, вот я и дождался: спи, Элен!»
Нестор, знавший в своей вселенной место каждой вещи, знал в ней место и каждой мысли, каждому движению души, а потому, взвесив поступок писателя на весах добра и зла, которые всегда держал внутри, посчитал его жестом отчаяния, не берясь судить того, кто разорвал петлю на шее. А утром другого дня, когда солнце яичным желтком размазалось по стенам, поднимаясь на чердак с новым ведром извести, он услышал неожиданное продолжение.
«Элен! Ты не могла уйти, не разбудив меня. Это не в твоих правилах, да и слишком рано, ты же любишь поспать, особенно с дороги. Или ночью тебя увезли, чтобы промыть желудок? О, Господи, да заверните этот проклятый кран! Нет-нет, безумие, этого не могло произойти! Ночью ты раскинула руки — что я ещё тогда подумал о них? — поверх простыни, а я, раздавив на кухне окурок, словно его пеплом собирался посыпать голову, пришёл подглядеть твои сны. А до этого была Катя, оторванная вешалка, разговор ни о чём. Ну, конечно, ты ушла под утро, и немудрено, что с похмелья я пропустил. Но давай же, возвращайся: из магазина, от парикмахера, шляпника. Видишь, мне плохо! И прости, я каюсь, каюсь, кап-кап-кап, не своди меня с ума! Довольно того, что валяюсь, как неотправленное письмо. Вернись в наше уютное гнёздышко, я брошу пить, не мучай же меня! Но вот повернулся ключ, сейчас ты войдёшь, и я рывком отброшу, одеяло, растерянность, вздор минувшего и брошусь к тебе, как прежде: «Элен!»».
Нестор, жадно припав к «глазку», видел, как она стояла в прихожей, сосредоточенно прилаживая пальто на табурет, потом тряхнула блестевшими волосами («На улице солнечно, — подумал писатель, — как она ухитрилась принести дождь?») и произнесла вместо приветствия: «Оторвалась вешалка». И, задвигая ногой саквояж, скороговоркой: «Лучше приезжать в ночь — а то день разбит».
«Полдень, полночь… − путались мысли писателя. − Не может быть, тебя выдаёт притворное спокойствие — ты всё подстроила, моё нежное чудовище, и мне хочется крикнуть: не лги, не лги! — я не психопат, ты уже побывала здесь ночью, приходила с дождём и оторванной вешалкой. Прекрати жестокий розыгрыш — меня не довести до сумасшествия, хотя я знаю — ты будешь отпираться, на нашей войне пленных не берут. Я представляю, как, торжествуя, ты позвонишь матери: «План сработал, он на грани помешательства». «Это не белая горячка! — мысленно кричу я, — все детали сходятся, как в мозаике, но одной всё же не хватает!» Однако вопль застрял внутри. Я вообразил, как невропат в пижаме, размахивая руками, объясняет жене, что хотел её убить. Я представил, с каким артистическим недоумением ты вскинешь бровь и произнесёшь тем елейно проникновенным тоном, от которого стынет кровь — его ты бережёшь специально для меня: «Ты слишком много работаешь, милый, надо отдохнуть». И уже через минуту, всё с тем же участливым выражением: «Как насчёт психиатра?» Нет, Элен, тебе не одержать победы, ты не будешь торжествовать, уж лучше безумие!
Нестор едва не закричал, увидев, как медленно, словно крадучись, она прошла на кухню, поправляя на ходу наглухо задрапированное платье, и, равнодушно скользнув взглядом по смятым окуркам, зелёной бутылке, пускающей «зайчика», остановилась на чёрном, сохнувшем на столе пятне: «С каких это пор, дорогой, ты пьёшь кофе из двух чашек?»
Чистильщик, исправляющий ошибки Бога, Нестор ужаснулся женскому коварству, и первым его движением было вмешаться, защитить писателя тем единственно доступным способом, который он испытал на Гордюже и Тяхте, применив его на этот раз к женщине, но, поколебавшись, он утопил кнопку лифта и поехал на первый этаж. А жена писателя так и не увидела свою спускавшуюся смерть, и, когда в церкви ставила свечу за здравие своей матери, не подумала поставить за собственное. Поцеловав руку о. Мануила, она опустила глаза, умолчав на исповеди о ночном розыгрыше мужа, долго жаловалась на несносную семейную жизнь, выслушивая от человека, всю жизнь проходившего холостым, что брак — это тяжёлая ежедневная работа.
Однажды на службе о. Мануил заметил, что церковь наполнена молодыми людьми. Он вышел на улицу, но и там его окружала молодёжь. Так он понял, что постарел. После выходки Исаака о. Мануила стали посещать странные мысли, которых он стыдился. Он гнал их, изнуряя себя постом, накладывал на себя епитимью, но они были неотвязны, как попрошайки в тёмном переулке. Тогда он решил их записывать, чтобы стали кристально ясными, как стекло морозным утром, и со временем разобрался в них настолько, что уже мог читать их слева направо так же, как справа налево, и тогда стал подумывать об отставке. Теперь он с большей тщательностью готовился к воскресным проповедям, а, принимая исповеди, многие записывал, чтобы по субботам, накануне выступления, перечитывать. А однажды с удивлением обнаружил, что не помнит, когда записал следующую, точно пребывал в летаргическим сне:
«— И чем они лучше? Чем осчастливили человечество? Почему у них всё?
— Учтите, зависть разъедает…
— Тогда почему всё на ней держится? Почему все мечтают стать как они? А если я из тех, кто всегда виноват в пропущенном мяче?
— Неудачник?
— На психоаналитика, однако, скопил.
Я сидел у кушетки с блокнотом, и ему казалось, что я веду записи, но я городил из клеток детские домики.
— Я из маркетинговой компании… Представляете, что это такое?
Я кивнул.
— Телексы, факсы, по телефону до хрипоты. Чтобы какая-нибудь дура купила лифчик. А с лифчиком и себя продаём. За три копейки. А кто за четыре — свысока смотрит. Закурю?
Затянувшись, он разогнал дым ладонью.
— Раз на корпоративной вечеринке спросил: неужели цель жизни — сколотить состояние, а потом — в гроб? Покосились, как на ребёнка. Но я, звякнув вилкой по бокалу, предложил тост за взрослую жизнь. Один кивнул, у остальных — презрение. А начальник по плечу похлопал: «Пора баиньки». И такси вызвал.
— Боитесь работу потерять?
— Боюсь. Больше — только смерти. Но это отдельный разговор. Когда неприятности, бывает, представляю, что умру.
— И помогает?
— Да. Пока не холодею от ужаса.
Поплевав на окурок, положил в карман.
— Женаты?
— А толку? Женился сгоряча, на первой попавшейся, чему удивляться, что она отводит душу с подругами, и муж ей, как душ.
Хрипло рассмеявшись, он закашлялся. Я протянул воды.
— Дети?
Он на мгновенье замялся.
— Сын. Но он пошёл в мать, со мной мало общего. А скажет — как нож в сердце. Ничего, что разнылся?
— Вы же заплатили.
— Простите, когда с утра до ночи о деньгах…
Он сделал большой глоток.
— И звонят мне только по делу. У каждого свой футляр — мир-то вокруг страшный! Я вот в метро спускаюсь, будто в серпентарий, — жду, кто укусит.
— Давно отпуск брали?
— Давно.
— Съездите к морю.
— А мысли в багажном отделении оставить? — скривился он. — Нет, доктор, что-то вокруг неладно, от одиночества засыхаем, как в пустых колодцах, а барьеры возводим, будто под одеяла глубже зарываемся, думаем, теплее станет. А счастье? Только в детстве?
Отставив пустой стакан, он вынул новую сигарету. Я нарисовал очередной домик.
— Возраст, наверное, но я часто думаю: а зачем этот конвейер? Все эти машины, гамбургеры, офисы, банковские счета, утилизированные отходы, инкубаторы для птиц, рыб, людей? Конвейер — от роддома до колумбария…
Он всё чаще смолкал, нервно сминая окурок. А мне передавалось его отчаяние. Что ответить? Мы все разные, но есть ракурс, в котором вдруг видишь себя. Он был как зеркало. И таких в моей практике всё больше. Чем им помочь? Выписать транквилизаторы? Дать пустые советы? Вселить надежду? На что? Кругом ложь, лицемерие. У меня большой опыт, я заговариваю боль, как цыганка. Но облегчить — не вылечить! Вот и приходится прятать глаза в детские домики, чтобы вдруг не признаться, что и сам давно не верю ни в человечество, ни в его светлое будущее. А в университете меня дразнили: «Нет бога, кроме прогресса, и М.С. пророк его!» А что прогресс? Телевизор, который оскорбляет разум? Газетная жвачка? Журналы, предлагающие счастье в глянцевой упаковке? Города, забитые холодными, равнодушными улыбками, в которых не говорят, что думают, и не делают, что говорят? Какой смысл в моей работе, раз ничего нельзя изменить? Конечно, вида не подал, пошутил — в тысячный раз! — что и сам не трудоголик, потому как родился в воскресенье. А когда он ушёл, сделалось невыносимо…