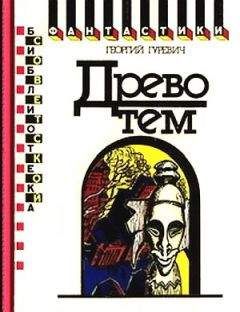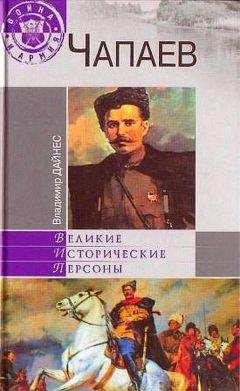Светлана Шенбрунн - Пилюли счастья
Меня спасла Люба.
Оказалось, что мой отец был вторично женат. Сразу же после смерти мамы взял и расписался с какой-то девушкой, удравшей из колхоза без разрешения председателя и желавшей во что бы то ни стало зацепиться в Ленинграде. Отец решил зачем-то вмешаться в ее судьбу — строптивый был человек, — поехал в ее колхоз, добился для нее паспорта, расписался и устроил к себе на завод. Более того, даже прописал на нашей жилплощади. Я ни о чем об этом не знала и не подозревала. Чем она его так растрогала, чем привлекла и почему он вообще поверил в ее честность и порядочность, остается неясным. Но она не обманула его доверия. Звалась она Любой — как моя мама. Домой к нам он не привел ее ни разу, как выяснилось впоследствии, она снимала угол в Урицке и была довольна жизнью. По стечению обстоятельств за день или за два до гибели отца Люба получила профсоюзную путевку в дом отдыха в Сестрорецке, и целых две недели никто ей ни о чем не рассказал. А вернувшись на работу и услышав о трагическом происшествии, она еще несколько дней раздумывала, стоит ли ей показываться мне на глаза. Боялась, как бы я не подумала, что она на что-то претендует. Но когда до нее дошли слухи, что меня собираются выбросить из комнаты, тут же возникла.
Я и ей не хотела открывать, но она убедила меня, что не врет: подсунула под дверь паспорт с печатью о браке и с пропиской.
— Ну да, — сказала она, перешагнув порог нашей комнаты, — ишь ты, какие шустрые! Жилплощадь им! А этого не хотите? Не трусь, девка, проживем!
Я ей поверила — она была славная и вдвое старше меня.
Я начала ходить в школу и даже записалась в шахматный кружок. Люба все перемыла и переставила в комнате, мою — бывшую мамину — кровать подвинула к окну, а себе купила новенькую полуторку с блестящими никелированными шишечками. Между ними поместила гардероб и швейную машинку — благо комната длинная, места не занимать, — а диван отправила к противоположной стене…
Была ли действительно какая-то близость между Любой и моим отцом? Не думаю. Скорее всего, нет. Если бы она была одной из его многочисленных «приятельниц», он не стал бы за нее хлопотать и уж тем более не прописал бы у себя в комнате. В том-то и дело, что в данном случае он выступил в роли благородного и абсолютно бескорыстного рыцаря. Как Паулина в случае с Пятиведерниковым.
12
Ни мещанско-пролетарской кровати с никелированными шишечками, ни продавленного дивана, ни дешевенького фанерного гардероба — ничего такого не было и быть не могло в той комнате, которую я делила с Евгением. Вернее, он делил со мной. Это была комната совершенно иного полета. Жилище, наглядно свидетельствовавшее об особых устремлениях и незаурядных достоинствах своего хозяина. Доминировал в ней оставшийся от отца солидный директорский стол, и при солнечном свете, и при электрическом номенклатурно отсвечивавший лощеными боками. Стол занимал львиную долю комнатного пространства. Приземистая потрепанная тахта в соседстве с ним выглядела гривуазной и неуместной приживалкой. Однако в их сочетании заключался отчетливый смысл и намек: стол подчеркивал уважение к немеркнущей памяти отца, тахта же отвечала вкусам и представлениям самого Евгения, и он ни за что на свете не согласился бы поменять ее на самый что ни на есть дорогой и почтенный кабинетный диван. Хотя, в общем-то, спать можно и на диване.
Как ни странно, но и тут, и в этой, на многое претендующей комнате, присутствовало небольшое кругленькое зеркальце. Небольшие кругленькие зеркала превозмогли все катаклизмы: войны и революции, тиф, голод, блокаду, восстановительные периоды, аресты и партийные чистки — и остались неизменной принадлежностью нашего быта. Отстояли себя даже в обществе развитого социализма. Правда, зеркальце в комнате Евгения несло на себе печать некой тайной горечи и ущемленности. Непризнанности. Незаслуженной обиды. Трудно сказать, отчего не удостоилось оно более приличной оправы, какой-нибудь резной деревянной рамы или узорного серебряного оклада на литом основании, пружинящей пластмассовой подставки на толстой монолитной ноге или хотя бы модной в те дни оплетки макраме. Зеркальце было тощеньким и белесым, сдавленным, приплюснутым, словно бы потускневшим от всего пережитого. Держалось оно на двух хилых металлических лапках, вечно грозивших разъехаться. Заключенное в покривившееся латунное кольцо, оставлявшее сбоку досадный зазор, наводило на мысль о недобросовестности или неумелости производителя.
Перед письменным столом располагалось кресло, выдолбленное из цельного комля одного из тех деревьев, что погибли на заболотившемся участке. Дерево спилили, а пень остался стоять, постепенно подгнивая и все глубже погружаясь в ржавую жижу. По прошествии нескольких лет он сам собой выдвинулся из прокисшей почвы, как выдвигается зуб из больной, воспаленной десны. Не знаю, каким образом Евгению удалось извлечь это сокровище из болота и доставить домой — весило оно никак не меньше тонны. Однако не было таких преград, которых не преодолели бы энергия и упорство моего деловитого мужа. Долгие месяцы, если не годы, кресло упорно источало мрачное болотное зловоние. А может, и сейчас еще источает…
Представляю себе, какое недоумение и отвращение проступили бы на физиономии моего высокопоставленного тестя, доведись ему узреть перед своим столом сию пакостную причуду, вздорное изделие сына и наследника, утратившего всякое представление о субординации и святости регалий. Только в порядке насмешки и издевательства можно было водрузить этот болотный пень перед папиным министерским столом. Без пяти минут министерским.
Маленькое кругленькое зеркальце отражало крупную ладную фигуру Евгения, день за днем сосредоточенно постукивающую молоточком по разного диаметра и размера долотам. Пока он постукивал, я забиралась с ногами на тахту и вязала жилет — для него, моего возлюбленного супруга, из деревенской шерсти красного и черного цвета, приобретенной в Таллине. Траурно-революционные цвета, но других не было.
Семейная идиллия. Из всех его занятий и увлечений это представлялось мне самым достойным и трогательным. В обстругиваниях и долблениях было что-то от настоящего, нехитрого, зато полезного дела. Хотя, разумеется, даже если пренебречь мнением покойного тестя, в наших конкретных обстоятельствах (то есть на ограниченной площади предоставленной в наше распоряжение комнаты) легкое фабричное кресло было бы куда удобнее и практичнее — и сидеть приятнее, и легче передвигать во время уборки. Но вещь, сделанная своими руками, имеет особую ценность. Не исключено, что какой-нибудь прадед моего мужа в самом деле был честным и добросовестным тружеником, снабжавшим людей прочными и не лишенными особого тяжеловесного изящества столами и лавками.
Да, имелся еще торшер, составленный из бамбуковой палки и слегка помятых медных гильз. Палка сама по себе была великолепна, но изделие вышло далеким от совершенства: с обоих его концов высовывались витки электрошнура, и две лампочки оказались подвешены под абажуром как-то очень уж криво и неумело.
Зато столярные инструменты всегда были разложены на подсобной табуретке в идеальном порядке.
Торшер окутывал наши вечера мягким благожелательным светом и сулил сладкое безмятежное будущее. Не горюйте, не печальтесь, милые супруги, ласковой вам ночи и успешного дня!
Я не заблуждалась — с самого начала в нашем положении наличествовало очевидное и непреодолимое неравенство: он находился у себя дома, в кругу своей семьи, полноправный хозяин и законодатель при любом повороте событий.
Это мне надлежало теперь встать и уйти. Покинуть арену действия. Мое присутствие в этой комнате могли оправдывать только совет да любовь, но они не выдержали испытания временем.
Я вела себя глупо: все сидела на тахте и вязала черно-красный жилет. С каждым новым рядом черных и красных петель нарастало висевшее в воздухе напряжение. Первоначальное смущение давно уже переросло в нескрываемое раздражение — действительно, что еще он должен сказать? Он сделал все, что от него зависело, это я злокозненно нарушаю правила хорошего тона, свободы выбора и элементарной учтивости. Назло ему вяжу мерзкий, отвратительный жилет, который он никогда, никогда и ни при каких обстоятельствах!.. Плету вязкую бесконечную паутину, которая грозит ему удушьем и погибелью. Он окостенеет и умрет в этом коконе!
Новый день сменяет короткую летнюю ночь, а мы так и не сдвинулись ни на шаг. Невозможно даже сказать, что мы топчемся на месте. Мы не топчемся, мы застыли, зависли, онемели, погрузились в бледную немочь и недвижность — он у оконной рамы, я на низкой пухлой тахте. Давно пора приступить к следующему акту жизненной драмы, плодотворно кипеть, активно бороться, устремляться дальше — вперед и выше, дерзать, вкушать, свершать, а она, эта женщина, по какому-то нелепейшему недоразумению оказавшаяся деталью его жизни, сидит тут, лишая действие всякого смысла, сидит и тянет одну черную петлю за другой черной петлей…