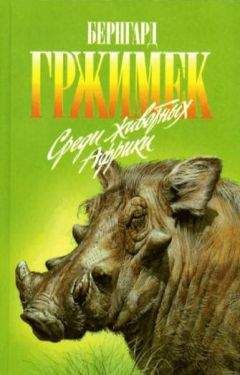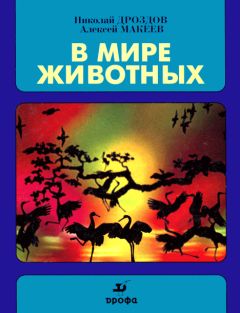Александр Проханов - Шестьсот лет после битвы
Он сидел за грудой старого хлама, слыша снаружи моторы, крики, лай собак.
Глаза привыкли к сумеркам. Он стал различать окружавшие его предметы. Деревянная долбленая ступа, в которой толкли зерно, источенная и трухлявая. Старая прялка с лопастью, похожей на весло, почернелая, отшлифованная прикосновениями рук, бессчетных овечьих шерстинок. Поломанные самодельные грабли с выпавшими зубьями. Продырявленная, сплетенная из ивовых прутьев верша для ловли рыбы. Весь этот старый, пришедший в негодность скарб и был той защитой, что скрывала его. Отделяла от военных грузовиков и солдат, от смятенного, покидающего жилища люда, от взорванной станции, от случившейся катастрофы. Этот ворох крестьянских изделий, не изменившихся со времен неолита, заслонял его от взорвавшегося реактора, от жгучих лучей радиации. И он прижимался к этим древним орудиям, вдыхал их тончайший, из прели, из трухи, нестрашный древесный запах.
Он пытался представить случившееся. Понимал, что случилась катастрофа, и ее размеры, неведомые ему, казались огромными. Расширялись в его представлении, грозили другими авариями, цепной реакцией взрывов, когда вот-вот один за другим замурованные в бетон стальные чаши реакторов начнут взрываться, вышвыривая раскаленное ядовитое варево. Поднебесные гейзеры радиоактивного пара. Случилось то, чего он тайно боялся. Что побуждало его работать и действовать. Что вывело на свет его «Вектор». Угрюмые, слепые, заложенные в индустрию энергии, темные, неуправляемые, скопившиеся в машинах и в людских умах, стали действовать вопреки изначальным замыслам. Разрушили скреплявшие их оболочки, вынесли на свободу и пошли носиться и рушить. Губить, повергать в крушение и хаос все, что в великих трудах было возведено и построено.
Он представил себе города и заводы, уходящий к горизонту индустриальный пейзаж, и туда же, к горизонту, удалялась череда пожаров и взрывов — взрывались атомные станции.
Он опоздал. Торопился, создавал свой «Вектор», стремился ввести его в действие раньше, чем наступит взрыв. Но опоздал. Его опередили. Всего на несколько дней. На те, что провел у костра, у тихого озера, созерцая цветы. Он должен был успеть запустить свой «Вектор», который вычерпывает из мира энергии распада и гибели, расщепляет их, обезвреживает, превращает в энергию творчества. Но он опоздал.
Слишком долго готовился, слишком долго учился. Позволял себе отдыхать, позволял отвлекаться. Еще больше должно было быть бессонных ночей. Больше прочитанных книг. Непростительно то давнишнее его путешествие в Ростов Великий, когда захотелось поглядеть на древнее русское диво, — он не должен был этого делать, потерял для работы неделю. Непростительна та давнишняя его любовь, когда забросил свои чертежи и весь месяц, весь чудесный зеленый май, провел на берегу Енисея, пропустившего по себе сначала звенящий ледоход, а потом белоснежные караваны судов. Они жили в палатке на берегу, слушали ночами гудки, кряканье селезней. Нет, не должен был этого делать, — отстал на месяц в работе.
Он сидел в крестьянском сарае среди соломы и ветоши, поломанных орудий труда, которые и после смерти продолжали служить: скрывали его, Фотиева, сберегали его и таили.
Наконец все утихло. Погас вдалеке рокот последнего грузовика. Перестали лаять собаки. Зашла на порог серая курица, остановилась, и Фотиев видел, как прозрачно и ярко краснел попавший на солнце гребень.
Он осторожно выбрался из укрытия. Двор был смят и истоптан. Смята и истоптана была рассада. Открыта и не затворена калитка. Не замкнута на щеколду, приоткрыта дверь в хату.
Он хотел было пройти, но мучительное любопытство, больное влечение к чужому покинутому жилищу остановили его перед дверью.
Он вошел. Дом был живой, полный тепла, дыхания, словно обитатели его где-то рядом. В огороде или в палисаднике, сейчас вернутся, наполнят жилище хлопотами, разговорами.
На столе — тарелка с остатками еды. Ложки. Хлебница с хлебом. Трапеза, неостывшая, звала к себе, ждала хозяев. И он осторожно обогнул стулья, боясь их сдвинуть, чтоб не разрушать остановившееся мгновение, которое с приходом хозяев оживет, вольется в движение времени.
В печке с потертой побелкой, с синеньким, намалеванным поверху орнаментом стояли чугунки, пахло дымком, томленой едой. Прислоненная к печке, на земле сидела большая кукла.
А в углу, накрытый салфеточками, продолжал работать телевизор. Звук был выключен, но экран горел. Какой-то певец беззвучно раскрывал рот, вздымал грудь, протягивал вперед руку, помогая излетавшим звукам. Фотиеву неизвестно зачем захотелось услышать слова. Он усилил громкость.
Друг, нам все по плечу!
Если я захочу.
Если ты захочешь, друг!
В десять рук!
В сотни рук!
И в работе, и в любви!
Я и ты! Я и ты!
Он смотрел на певца. Тот в своей студии еще не ведал о случившемся, пел свою целлулоидную песенку. А оно, случившееся, уже присутствовало в хате. Проносилось смертоносными вихрями над покинутой трапезой, над стеганым смятым одеялом. Пронзало коврик на стене, картинку с изображением кота, бумажную иконку на божнице. И его, Фотиева, стоящего среди разоренного жилища. И он, Фотиев, с этой минуты должен действовать в новом, жестоко изменившемся мире.
Осторожно выключил телевизор. Покинул хату. Затворил дверь, замкнув ее на щеколду. Поискал на земле и, найдя щепочку, вставил ее машинально в запор.
Проходя по деревне, он нашел у калитки маленький светлый цилиндрик с прищепкой, как у авторучки. Такой же дозиметр, что видел недавно у майора. Повторяя жест офицера, поднял трубочку к свету. Посмотрел в торец. В маленьком стеклышке, в прозрачном кружке были нанесены риски с цифрами. Сверху вниз проходила тонкая, как волосинка, вертикаль. Волосяная линия уже миновала нулевую отметку. Дозиметр уже нес в себе уловленную радиацию.
Фотиев вглядывался в прозрачный окуляр. И вдруг подумал: неужели теперь придется смотреть сквозь это малое разлинованное стеклышко на весь мир божий? На реки, леса и травы? На женские и детские лица?
Защипнул дозиметр в кармане. Вышел из села на шоссе, решив добираться в Чернобыль. Шел, повторяя: «Вектор!.. Века торжество!» И в горле начиналось жжение. Кашлял, повторял: «Века торжество!» Шагал туда, где оставалось его детище.
На трассе его несколько раз обгоняли бронетранспортеры. Закупоренные, с зажженными фарами проносились на бешеных скоростях, окутывали его пылью и дымом. Он и не думал сигналить, не думал их останавливать. Радовался, когда они исчезали.
Несколько раз ему казалось, что он слышит выстрелы. Несколько раз над дорогой пролетали вертолеты. Наконец на шоссе, настигая его, возник грузовик. Фотиев поднял руку, издалека начиная сигналить. Грузовик остановился. Водитель в респираторе отворил дверцу.
— Мне в Чернобыль, — сказал Фотиев. — Подбросишь?
Сосед водителя, тоже в респираторе, осмотрел молча Фотиева — его солдатские сапоги, пилотку, робу, блестевший в кармане карандаш дозиметра. Кивнул. Водитель сказал:
— Лезь в кузов!
Тронул, едва Фотиев вцепился в борт. Перелезая в крытый брезентом кузов, пошатнувшись от резкого набора скорости, Фотиев плюхнулся на скамейку, на которой уже сидели трое, все в респираторах.
Мчались под хлопающим брезентом. Фотиев прислушивался к разговору, к словам, вылетавшим из-под масок.
— Да они, тетери, и не слышали, как рвануло! Уже рвануло, а они все еще управляли потоком. Весь поток-то уже нарушен, а они свои клавиши жмут, пианисты фиговы!
— Уж музыку устроили! Нам теперь под эту музыку плясать не день, не два!
— Лучше скажи — не месяц, не два! Вон пожарные уже отплясались! Сегодня кабели опять загорелись, опять их тушили в зоне четвертого!
— Если он, сука, бетон прожжет и в воду рухнет, это будет взрыв не знаю во сколько мегатонн! Он и третий, и второй, и первый блок разворотит. Это будет не знаю что! Сейчас воду из-под него откачать — первое дело!
— Да мы лазали туда с генералом. Задвижки искали. Он сам под воду нырял, задвижки эти нащупывал. Завтра начнем откачку!
— Если он, сука, ночью не рванет второй раз! Тогда откачивать будет нечего!
— И некому!
— Не бойсь, будет кому! Ты же и пойдешь, если прикажут!
— Крепко надо будет приказывать!
— Крепко и прикажут!
— Очень крепко!
— Не бойсь, крепко тебе и прикажут!
Фотиев слушал, жадно ловил слова. Даже не столько их смысл, сколько их интонацию. В этой интонации была тревога, раздражение, злость, но не было паники. Не было той покорной беспомощности, которую он видел у жителей, покидавших село.
Там, на станции, в зоне взрыва, уже начиналась работа. Не все бежали в панике. Кто-то остался и шел навстречу взрыву. Кто-то стремился на взрыв. Эти трое уже побывали там, укрощая огромную вспышку встречными вспышками своей отваги. И ему, Фотиеву, тоже нужно туда. Он не знает законы физики, незнаком с теплотехникой, с устройством огромной станции. Он знает законы осмысленной человеческой деятельности, стократ увеличивающие полезный ее результат. Он знает «Вектор». И место его — на станции. Там, на взорвавшейся станции, его рабочее место.