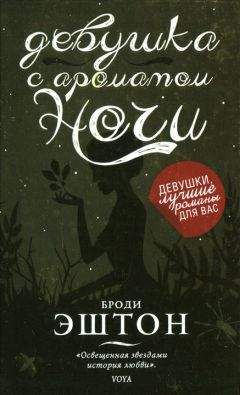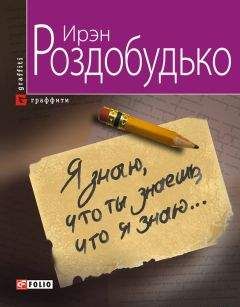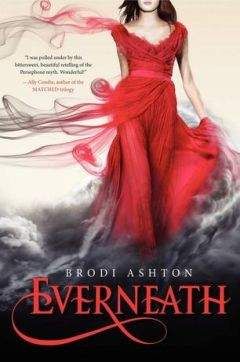Бруно Шульц - Коричные лавки. Санатория под клепсидрой
Я понял тогда, зачем животным рога. Это было то непостижимое, что не могло вместиться в их жизнь, каприз дикий и навязчивый, неразумное и слепое упорство. Некая idée fixe выросла за пределы их естества, переросла головы и внезапно явилась на свет, отвердев в материю ощутимую и жесткую. Закрученная фантастической арабеской, недоступная их взору и пугающая, изогнутая неведомой цифрой, под кошмаром которой они жили, приняла она образ дикий, непредсказуемый и неправдоподобный. Я понял, почему эти животные были расположены к безрассудной и дикой панике, к переполоху умопомрачения: пребывая во власти своего помешательства, они не умели выпутаться из хаоса рогов, сквозь которые, когда наклоняли головы, глядели одичало и печально, словно хотели протиснуться меж их ветвями. Рогатым животным этим было далеко до освобождения, и они с печалью и смирением несли на головах стигмат своей ошибки.
Но еще недоступней озарение было для кошек. Их безупречность пугала. Замкнутые в прецизии и аккуратности своих тел, они не знали ошибки и отклонения. Они на миг уходили в глубь, на дно собственной сути, и сразу замирали в мягком своем меху, грозно и торжественно серьезнели, а глаза их округлялись, точно луны, вбирая взгляд в огненные свои воронки. Но уже через мгновение, выброшенные на берег, на поверхность, кошки зевали своей ничтожностью, разочарованные и без иллюзий.
В их жизни, исполненной самодостаточной грации, не оставалось места альтернативе. Наскучив тюрьмой безвыходного совершенства, обуреваемые сплином — они брюзжали, морща губу, полные безосновательной жестокости в короткой, расширенной полосатостью морде. Пониже украдкой проскальзывали куницы, хорьки и лисы — ворье меж зверей, животные с нечистой совестью. Коварством, интригою, трюком они вопреки плану творения добились позиции в жизни и, преследуемые ненавистью, всегда в опасности, всегда начеку, в вечном страхе за эту самую позицию, отчаянно любили краденую свою, по норам хоронящуюся жизнь, готовые дать себя растерзать, отстаивая ее.
Наконец миновали они все, и в комнату вошла тишина. Я снова принялся рисовать, уйдя в свою бумагу, дышавшую светом. Окно было отворено, и на оконном карнизе дрожали на весеннем ветру горлицы и голу́бки. Склонив головки, они показывали в профиле круглый и стеклянный глаз, словно бы устрашенные и исполненные полета. Дни в последнее время сделались мягкие, опаловые и светоносные, а иногда — жемчужные, полные мглистой сладости.
Настала Пасха, и родители уехали на неделю к моей замужней сестре. Меня оставили одного на милость вдохновения. Аделя каждодневно приносила обеды и завтраки. Я и не замечал, когда она появлялась на пороге, празднично одетая, благоухающая весной из своих тюлей и фуляров.
Сквозь открытое окно вплывали мягкие дуновения, наполняя комнату отсветами далеких пейзажей. Какое-то время они жили в воздухе, навеянные эти краски ясных далей, чтобы вдруг растаять, расточиться в тень голубеющую, в нежность и трогательность. Прилив образов несколько поумерился, половодье визий утихло и успокоилось.
Я сидел на полу. Возле меня, лежали мелки и пуговки красок — Божьи колера, лазури, дышавшие свежестью, зелени, вовсе достигшие границ изумления. И когда я брался за красный мелок, в ясный мир летели фанфары счастливой красности, все балконы струились волнами красных флагов, и дома выстраивались вдоль улицы триумфальной шпалерой. Парады городских пожарных в малиновых мундирах печатали шаг на светлых радостных дорогах, а мужчины приподнимали котелки цвета черешни. Черешневая сладость, черешневый щебет щеглов полнили воздух, сплошь лавандовый и в мягких отсветах.
А когда брал я голубую краску — по всем окошкам улиц проходил отблеск кобальтовой весны; звеня, отворялись одна за другой створки, полные голубизны и голубого огня; занавески вставали, как по тревоге, и легкий, радостный сквозняк шел всей шпалерою среди взволнованных муслинов и олеандров на пустых балконах, как если бы на другом конце длинной этой и светлой аллеи явился кто-то очень далекий и близился — лучезарный, предваряемый вестью, предчувствием, благовествованный полетом ласточек, универсалами светоносными, разбросанными от версты до версты.
IIIИменно в пасхальные праздники, в конце марта или в начале апреля, из тюрьмы, в которую сажали его на зиму после летне-осенних скандалов и безумств, выходил Шлёма, сын Товита. В какой-то из тех весенних заполдней я наблюдал в окошко, как он вышел от парикмахера, бывшего в одном лице также цирюльником, брадобреем и хирургом города; как с элегантностью, приобретенной благодаря тюремным строгостям, отворил стеклянные сверкающие двери цирюльни и сошел по трем деревянным ступенькам, надушенный и помолодевший, аккуратно постриженный, в коротковатом сюртучке и высоко подтянутых клетчатых штанах, тонкий и моложавый для своих сорока лет.
Площадь Святой Троицы была об эту пору пуста и чиста. После весеннего таянья и грязи, смытой затем проливными дождями, теперь оставалась умытая мостовая, просушенная тихой, мягкой погодой за многие дни, долгие уже и, может быть, слишком просторные для ранней той поры, продолжающиеся несколько сверх меры, особенно вечерами, когда сумерки длились без конца, пустые еще в глубине, напрасные и выхолощенные в огромном своем ожидании.
Когда Шлёма затворил за собой стеклянные двери парикмахерской, в них тотчас вошло небо, как и во все маленькие окна этого двухэтажного дома, открытого чистым глубинам тенистого небосклона.
Сойдя по ступенькам, он оказался вполне одиноким на кромке площади — большой и пустой раковины, сквозь которую текла голубизна бессолнечного неба.
Обширная чистая площадь в послеполуденное это время выглядела, словно стеклянный шар, словно новый непочатый год. Шлёма стоял на его берегу вполне серый и погасший, заваленный лазурями, и не смел нарушить решением безупречный этот шар дня непользованного.
Только раз в год, в день выхода из тюрьмы, Шлёма чувствовал себя таким чистым, необремененным и новым. День принимал его в себя отмытым наконец от грехов, обновленным, поладившим с миром; отворял перед ним со вздохом чистые круги горизонтов, венчанные тихой красою. А он не спешил. Он стоял на кромке дня и не решался перешагнуть, пересечь своей мелкой, молодой, несколько прихрамывающей поступью слегка выпуклую раковину заполдня.
Прозрачная тень лежала над городом. Безмолвие третьего послеполуденного часа извлекало из домов чистую белизну мела и беззвучно раскладывало ее вокруг площади, как талию карт. Раздав один расклад, оно начинало новый, черпая запасы белизны с большого барочного фасада Святой Троицы, который, словно слетевшая с небес огромная рубаха Бога, драпированная пилястрами, ризалитами и оконными проемами, распяленный пафосом волют и архивольтов, торопливо приводил на себе в порядок огромное это взбудораженное одеяние.
Шлёма поднял лицо, обнюхивая воздух. Тихий ветер доносил запах олеандров, запах праздничных жилищ и корицы. Затем он оглушительно чихнул своим знаменитым могучим чихом, от которого голуби на полицейском участке испуганно сорвались и улетели. Шлёма улыбнулся сам себе: Господь оповестил путем сотрясения Шлёминых ноздрей, что весна настала. Это была куда более верная примета, чем прилет аистов, и дни впредь имели быть уснащены таковыми детонациями, которые, хотя и затерянные в городском шуме, то тут, то там комментировали события столь остроумным комментарием.
— Шлёма, — позвал я, стоя в окне нашего низкого второго этажа.
Шлёма заметил меня, улыбнулся своей приятной улыбкой и отдал честь.
— На целой площади сейчас одни мы с тобой, я и ты, — сказал я тихо, ибо надутый шар небес резонировал, как бочка.
— Я и ты, — повторил он с печальной улыбкой, — как пуст сегодня мир.
Мы могли поделить его и перенаречь — такой лежал он перед нами открытый, беззащитный и ничей. В такие дни Мессия подходит совсем уже к краю горизонта и глядит оттуда на землю. И когда он видит ее, белую и тихую, с голубизнами и задумчивостями, может случиться, что он разглядит рубеж, голубоватая череда облаков ляжет переходом, и, сам не ведая что творит, он сойдет на землю. И земля в задумчивости своей даже не заметит сошедшего на ее дороги, а люди очнутся от послеобеденного сна и не будут ничего помнить. Прошлое целиком окажется как бы вымарано, и все будет, как в правека, прежде чем началась история.
— Что, Аделя дома? — спросил он с улыбкой.
— Никого нет, зайди на минутку, я покажу тебе рисунки.
— Если никого нет, не откажу себе в удовольствии. Открой.
И воровским манером, оглядываясь по сторонам в парадном, он вошел в дом.
IV— Замечательные рисунки, — говорил он, отводя их от глаз жестом знатока. Лицо его стало светлей от рефлексов цвета и отсветов. Иногда он делал ладонь трубочкой и глядел в эту импровизированную подзорную трубу, стягивая лицо в гримасу, исполненную серьезности и знания дела.