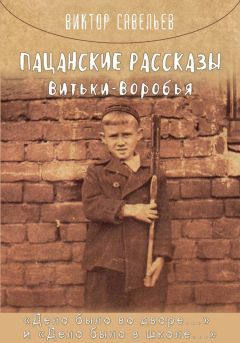Джонатан Коу - Круг замкнулся
Бенжамен двинул через автостоянку, приближаясь к толпе. Палатка с хот-догами наполняла воздух запахом мяса с луком, а совершенно седой краснолицый человек с профсоюзными эмблемами, сверкавшими на его цилиндре и жилетке, продавал детям воздушные шарики. Бенжамен засмотрелся на двух маленьких девочек лет пяти и трех — с важным видом они крепко держали шарики за нитку, пока их мать возилась, отрывая крышку с пластиковой коробки для завтраков, из которой она в итоге извлекла сэндвичи с джемом, завернутые в пищевую пленку.
Пятилетняя взяла сэндвич и принялась есть, но ее младшую сестру подвела координация. Потянувшись к сэндвичу, малышка выпустила из пальцев нитку, и желтый шарик немедленно взмыл вверх. Девочка задрала голову, и в первый момент лицо ее ничего не выражало, но вскоре в ужасе застыло.
— Мамочка! — закричала девочка и попыталась схватить шарик, но он был уже слишком высоко. — Мама!
В ушах Бенжамена этот вопль звучал куда громче, куда убедительнее, чем гортанное камлание, доносившееся со сцены. Он бросился вдогонку за шариком, приговаривая: «Я его поймаю! Поймаю!» Бенжамен слышал себя словно издалека, а мама девочки смотрела на него с испугом и полной уверенностью, что перед ней сумасшедший. Девочка тоже таращила на него глаза, но Бенжамену было все равно: его взгляд был прикован к шарику, взявшему курс на каштановые деревья, росшие у ограды парка. Шарик набирал скорость, Бенжамен старался не отставать, расталкивая плотные группки митингующих; вдогонку ему полетело «какого черта?..», когда он схватил за плечо какую-то женщину. Выбравшись из толпы на более-менее открытое место, Бенжамен бросился бежать, но было уже слишком поздно. Желтый шарик поднимался выше и выше, зацепился за ветку, ловко высвободился и поплыл по серому апрельскому небу, кувыркаясь, вычерчивая замысловатые петли, пока почти не исчез из виду, пока не растаял медленно в бесконечном пространстве, оставив по себе лишь огненную желтую точку на сетчатке и горькое, невыносимое чувство утраты…
Бенжамен приковылял обратно к матери и ее дочкам; с трудом переводя дыхание, он сказал:
— Я не смог догнать его, как ни старался. Он проворнее меня.
— Все в порядке, — холодно ответила мать. — Это только шарик. Я куплю ей другой.
Он взглянул на малышку. Глаза ее наполнились слезами, но на Бенжамена она смотрела все так же пристально, недоверчиво и озадаченно.
— Мне очень жаль, — обратился к ней Бенжамен. — Правда, жаль.
Затем он повернулся и зашагал прочь от толпы, чтобы больше сюда не вернуться.
20
От: Мальвина
Кому: Дуг
Отправлено: Среда, 19 апреля 2000, 1.54
Тема: Рассказ
Дорогой Дуг,
Я долго и упорно думала, прежде чем послать Вам это, и наконец решила, что под лежачий камень….
Пожалуйста, не читайте слишком усердно между строк. Это всего лишь фикшн, выдумка, хотя, конечно, все мы должны писать о людях, которых хорошо знаем, и о том, что пережили лично. У меня накопилось много неоконченных фрагментов — я уже года три пишу в свободное время или под настроение, — и поначалу я не знала, что выбрать, но в конце концов остановилась на самом свежем сочинении. Я работала над ним последние две недели.
Не жду, что Вы это опубликуете, вовсе нет. Знаю, у Вас нет ни возможности, ни желания (а может, и редакторских полномочий не хватает?). Но мне очень важно узнать Ваше мнение, поскольку я всегда считала Вас simpatico и Вы единственный из моих знакомых, кто имеет хоть какое-нибудь отношение к издательскому миру. Если Вы решите, что моя писанина никуда не годится (что ж, я пойму), прошу Вас, просто сотрите рассказ, а еще ПРОШУ никому его не показывать.
Такое чувство, что с митинга в Лонгбридже сто лет прошло. Пол шлет привет, поздравления с новой должностью и выражает надежду, что новая работа Вам нравится.
…….ТЕКСТ НА СКРЕПКЕ…….. ДЕМОНСТРАЦИИ1.
Она заблудилась.
Вышла со станции не с той стороны и вот уже минут десять бредет в тумане, который постепенно превращается в сумерки.
Волосы у нее намокли и обвисли. Влажные чулки липнут к ногам.
И ради этого она ушла с митинга, не дождавшись конца. А могла бы остаться подольше, стоять в гуще толпы, ощущая себя частью целого, слушать ораторов вместе с теми, кого она уже числит своими друзьями, вместе с человеком, который смотрит на нее с жадной тоской, человеком, от которого она многое утаивает и который ей невероятно близок.
Она не хочет ощущать себя частью целого. Это одна из причин, почему она здесь. Ей вдруг приходит в голову, что иных причин не так уж много.
Облака расступаются. Всходит кремовая луна. Она поворачивается и идет обратно по своим следам.
По пути ее захлестывает вожделение. Оно становится сильнее, мучительнее по мере приближения к его дому. Вожделение не покидает ее, когда она оказывается рядом с ним. Это новое чувство для нее, неожиданное. Оно то сжимает ей сердце, то оборачивается пустотой в желудке, а потом сладостной бездной между ног, отчаянно ждущей, чтобы ее наполнили. Почему именно он, и никто другой заставляет ее испытывать желание — тайна сия велика есть.
Потому что они родственные души? Как бы не так.
2.
Это не дом, но амбар. Никто больше не хочет жить в домах. Все хотят жить в амбарах, на складах, мельницах, в церквях, деревенских школах, часовнях, в сараях и сушилках для хмеля. Но особенно в амбарах. Дома им уже не хороши, только не этим людям, только не тем людям, в которых нас превратило процветание. Думая так, она вынуждена добавить: я не отделяю себя от всех, не отстраняюсь с независимым видом, будто я тут ни при чем. Все мы одним миром мазаны. Я бы сама хотела здесь жить.
Она сама хотела бы здесь жить, но, к сожалению, ее опередили. Золотоволосая блондинка (с иссиня-черными корнями волос), — кусая губы, она пялится на фотографии его жены, фотографии его ребенка. Куклы Барби на полу, плюшевые мишки на кровати и детский батут в саду. И она будет поражена, когда поздним вечером (после распитой бутылки вина, после ужина, который ей самой придется готовить, — буйабесс, любимое блюдо ее матери, щедро сдобренное шафраном и чесноком, неизменно умиротворяющее) он отправит ее спать в постель своей дочери. Отправит спать под пуховым одеялом с вышитыми цветочными феями, в комнату с изображениями мультяшных героев на стене. Отправит в кровать — такую короткую, что ее ноги торчат наружу. Может, он фетишист, помешанный на женских ступнях, и ночью он придет к ней, чтобы погладить ее ноги во тьме. Или, возможно (ага!), он дуется, оттого что она отказывается спать с ним в одной постели, и таким образом наказывает ее. Он в этом никогда не признается. Только скажет: «Нельзя, чтобы на гостевой кровати помялись простыни. Это вызовет подозрения».
Лично она думает, что поздновато уже заботиться о приличиях.
Но все это случится позже. А пока она пьет мелкими глотками кислое вино с лимонным привкусом и наблюдает, как он опускается на четвереньки и сооружает в камине пирамиду из дров, затем подносит спичку и чуть не вопит от радости, когда пламя занимается, взвивается и принимается отплясывать в очаге. Несколько минут спустя, когда огонь померкнет, опадет, скукожившись до блеклого мерцания, он опять скорчит обиженную мину и обвинит в неудаче сырые дрова.
3.
Раздвоение. Есть у нее такой дар. Один из немногих.
Они сидят вдвоем на диване, между ними шесть благопристойных дюймов, и ласкают бокалы в тишине. Они поработали (работа — предлог для ее появления здесь), и теперь необходимо заполнить коварный промежуток до отхода ко сну. Она глядит на огонь, на коврик перед камином и понимает, чего он хочет: чтобы она легла на этот коврик и смотрела на него снизу вверх. Она бы и сама хотела там лежать. Лежать и смотреть на него снизу вверх, сознавая свою власть над ним (до чего же это щекочущее чувство!), касаясь его ноги кончиком ступни, затянутой в чулок, с усмешкой вынуждая его раздвинуть ноги, поднимая ступню выше, еще выше — к его бедрам, и совсем высоко — к его слабому податливому сердцу.
И пока она с усмешкой раздвигает его ноги и поднимает вверх ступню, она глянет на себя, та глянет, другая, что сидит на диване на расстоянии в шесть благопристойных дюймов от него, и спросит: «Что ты тут делаешь? ЧТО, РАДИ ВСЕГО СВЯТОГО, ты тут делаешь?» Женщина на диване опустит глаза на женщину на ковре, на эту разнузданную, возбужденную, позволившую юбке задраться до бедер, выставившую напоказ светящуюся бледность своей кожи, и скажет:
Всю мою жизнь я только и делала, что заботилась о других. Сколько себя помню. Мне двадцать лет, и меня никогда не учили, как любить других, только как о них заботиться. Эта роль была навязана мне родителями. Точнее, моей родительницей. В моей короткой взрослой жизни меня трахнули двое мужчин и, трахнув, очень скоро меня бросили, потому что не хотели, чтобы я о них заботилась. Их бесило мое стремление заботиться о них, но я ничего не могу с этим поделать, потому что ничего другого не умею. И я чувствую, что этот мужчина нуждается в помощи. И только я могу ему помочь, больше никто. И это притягивает меня к нему, влечет против моей воли, и, наверное, это единственная разновидность влечения, которая мне доступна, иной я никогда не постигну.

![Олег Языков - Крылья Тура [2 том, 1 часть, "Сталинград", с илл.]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)