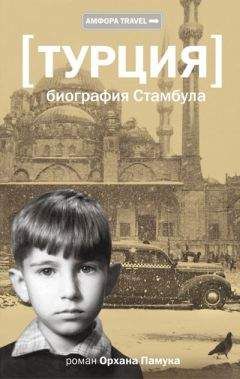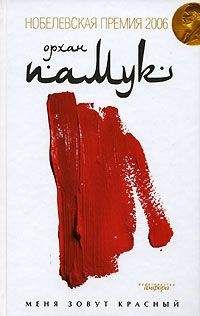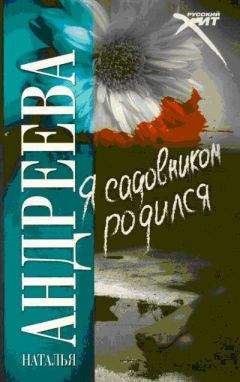Орхан Памук - Белая крепость
Вечером Ходжа сказал, что крестьяне рассказали не все, они скрыли правду; я-то в свое время пошел гораздо дальше: значит, и у них должны быть настоящие грехи, значительно более серьезные, отличающие «их» от «нас». И чтобы убедить падишаха и узнать истину, чтобы показать, каковы «они» и каковы «мы», он готов применить силу.
Все последующие дни он был одержим какой-то страстью, которая постепенно усиливалась и становилась все безумнее. Поначалу все было просто: мы были похожи на играющих детей, которые, выставляя себя друг перед другом, отпускают грубые шуточки; допросы же походили на сценки театра теней, словно мы разыгрывали их как одно из развлечений на охоте; но потом они превратились в своего рода обязательные торжества, истощавшие все наши силы, желания и нервы. Крестьяне были ошарашены вопросами Ходжи и его беспричинным гневом; если бы они понимали, чего от них требуют, то, может, и рассказали бы; я видел беззубых усталых стариков, собранных на деревенской площади: перед тем как, заикаясь, рассказать о реальных или мнимых грехах, они бросали вокруг безнадежные взгляды, словно прося помощи у окружающих и у нас; я видел молодых, чьи признания в грехах и дурных поступках Ходжа считал недостаточно честными; я снова вспоминал, как он истязал себя, гневно крича, что он не понимает, как я могу быть таким же, как он, и, прочитав написанное мной, ударял меня, будто бы в шутку, кулаком по спине: «Вот я тебе!» Но теперь, хотя, может, и не окончательно, он все же знал, чего ищет и какого результата добивается. Он попробовал и другой метод: время от времени неожиданно перебивал кающегося и объявлял, что тот врет; тогда наши люди набрасывались на него и начинали пытать. То вдруг обрывал очередного кающегося, говоря, что того поймал на лжи его же приятель. Бывало, что он пробовал допрашивать одновременно двоих. И злился, видя, что все равно не получается выбить из них признание, и как бы ни были жестоки наши люди, крестьяне стесняются еще и друг друга.
К тому времени, как начались непрекращающиеся дожди, я привык к происходящему. Я помню, как избиваемые часами, насквозь промокшие крестьяне, будучи не в состоянии ничего сказать, да и не намереваясь этого делать, стояли на грязной деревенской площади. На охоту мы стали выезжать все реже и реже. По правде говоря, мы иногда убивали газель с прекрасными глазами, что вызывало печаль падишаха, или огромного вепря, но на уме у нас теперь были не случаи на охоте, а эти допросы, к которым готовились загодя, как к охоте. А по вечерам Ходжа изливал мне душу, словно чувствовал себя виноватым за то, что совершал днем. Он сам был недоволен происходящим и своим остервенением, но ведь он старается получить доказательства, знания, полезные нам всем, и в том числе падишаху; и потом, почему эти крестьяне скрывают правду? Он сказал, что нам надо устроить то же самое и в мусульманской деревне; но это не увенчалось успехом: мусульмане отвечали так же, как их соседи-христиане, таким же образом признавались в содеянных грехах и рассказывали те же истории. В один из отвратительных дождливых дней Ходжа пробормотал что-то вроде того, что они не настоящие мусульмане.
Все более возрастающая ярость Ходжи, которая вызывала у меня любопытство и которая не нравилась падишаху, ставшему свидетелем ее проявления, пожалуй, помогала ему довести до конца задуманное, это была его последняя надежда. Продвигаясь все дальше на север, мы достигли лесистой местности, где жители вновь говорили на славянском языке; мы видели, как в маленькой симпатичной деревне Ходжа бил красивого юношу. После он говорил, что никогда не повторит ничего подобного; вечером его охватило, на мой взгляд, даже чрезмерное чувство вины. В другой раз я собственными глазами видел издалека, как крестьяне плакали под серым дождем над тем, что с ними приключилось. Нашим людям, ставшим мастерами своего дела, тоже стало надоедать происходящее; иногда они сами, не спрашивая нас, выбирали и приводили жертву для допроса, и переводчик задавал первые вопросы раньше уставшего от собственной злости Ходжи. Нельзя сказать, что жертвы, сталкиваясь с пристрастностью и жестокостью нашего допроса, о чем, как мы прослышали, уже ходили легенды, совсем не раскрывали свои тайны, — напротив: они подробно признавались в содеянном, будто втайне даже ждали этого допроса, трепеща от недоумения и страха перед высшей справедливостью; однако Ходжу больше не интересовали рассказы об изменах жен и мужей и о зависти бедных крестьян к своим богатым соседям. Он все повторял, что есть более сокровенная правда, но думаю, что и он сам, как и остальные, временами сомневался, что добьется ее. Однако и падишах, и все мы чувствовали, что он не собирался отказываться от своей затеи. Поэтому мы просто наблюдали, как он всем распоряжается. Однажды у нас мелькнула надежда, когда один парень, долго допрашиваемый в укрытии, куда мы спрятались от грозы, признавался, что ненавидит отчима за то, что тот плохо обращается с его матерью, и своих сводных братьев; но тем же вечером Ходжа почему-то заявил, что о признании этого парня можно забыть.
Армия продвигалась уже между высоких гор, очень медленно, по грязным дорогам среди мрачных густых лесов. Мне нравились прохладный сумрачный воздух березовых и сосновых лесов, настороженная тишина, пробуждающая подозрение. Никто не говорил названия местности, но мне казалось, что мы находились в предгорье Карпат; в детстве я видел их изображение на отцовской карте Европы, изготовленной неважным художником, — Карпаты были разукрашены оленями и готическими замками. Ходжа простудился под дождем и заболел, и все же каждое утро мы сворачивали с дороги, извивавшейся будто специально для того, чтобы не сразу привести нас к цели, и вступали в лес. Охота была забыта; мы развлекались не тем, чтобы убить оленя на берегу водоема или на краю пропасти, а тем, что держали в напряженном ожидании крестьян, готовившихся к нашему приходу! Мы входили в одну из деревень, делали свое дело и тянулись за Ходжой, который, не находя искомого, всякий раз требовал, чтобы мы немедленно отправлялись в другую деревню, дабы забыть об избитых крестьянах и о недостижимости своей цели. Ходжа по-прежнему время от времени испытывал различные методы воздействия: как-то падишах, терпение и любопытство которого меня поражали, приказал привести двадцать янычар; Ходжа задавал одинаковые вопросы им и светловолосым крестьянам, растерянно стоявшим перед своими домами; в другой раз он привел крестьян к войску, показал наше оружие, которое со страшным скрежетом двигалось вслед за султанскими войсками, и спросил, о чем они думают; секретари записали ответы, но, то ли оттого, что мы, по его словам, не хотим понять истины, то ли от его усталости, то ли от чувства вины, накатывавшего на него ночами, а может, оттого, что ему надоело ворчание простых солдат и пашей по поводу оружия и происходящего в лесах, или просто оттого, что он был болен, силы покинули его. Он кашлял, и голос не был таким громким, как прежде; он не мог задавать с прежней суровостью вопросы, ответы на которые знал наизусть; когда он вечерами говорил о необходимости нашего продвижения вперед, то избегал слов о грядущей победе, казалось, он сам не верил своему слабеющему голосу.
Помню тот последний раз, когда в пелене дождя, похожего на серый туман, он без энтузиазма допрашивал крестьян-славян. Нам уже не хотелось слушать, и мы стояли поодаль; в призрачном, размытом от дождя свете крестьяне бессмысленным взглядом смотрели в большое мокрое зеркало в золоченой раме, которое из рук в руки передавал им Ходжа.
Больше мы на «охоту» не отправлялись; перейдя реку, мы вступили на польские земли. Наше оружие не могло продвигаться по грязным, размытым дождем дорогам и задерживало продвижение войска. Возобновились разговоры о том, что оно принесет несчастье; ворчание янычар, участвовавших в эксперименте Ходжи, подогревало эти разговоры. И, как всегда, обвиняли не Ходжу, а меня — гяура. Когда Ходжа начинал свою возвышенную болтовню, надоевшую даже падишаху: о могуществе врагов, новом оружии и необходимости действовать, — паши, сидевшие в шатре падишаха, еще больше убеждались, что мы — обманщики, а оружие наше — проклято. На Ходжу смотрели как на больного, но не безнадежного, главной опасностью и главным виновным был я — интриган, обманывающий и падишаха, и Ходжу. Когда мы возвращались в свой шатер, Ходжа болезненно хриплым голосом говорил о них с негодованием и отвращением, как в прежние времена говорил о глупцах, но надежды, которая, как я верил в прежние времена, поможет нам выстоять, в нем больше не было.
И все же я видел, что он не намерен так легко сдаваться. Через два дня наше оружие застряло на дороге в глине и остановило движение войска, и я совсем отчаялся; Ходжа, несмотря на болезнь, боролся. Никто не давал нам людей или хотя бы лошадей; он обратился к падишаху, раздобыл около сорока лошадей, прицепил цепи к пушке, собрал людей; он занимался этим целый день; наконец, под взглядами тех, кто молился, чтобы пушка так и осталась в глине, яростно погоняя лошадей, он добился того, что наш огромный жук шевельнулся. Вечером он убеждал падишаха, который хотел избавиться от нас и нашего оружия, не делать этого.