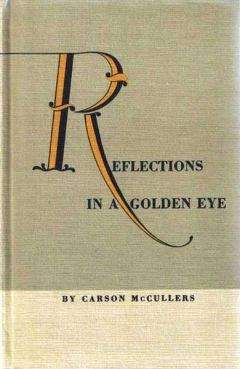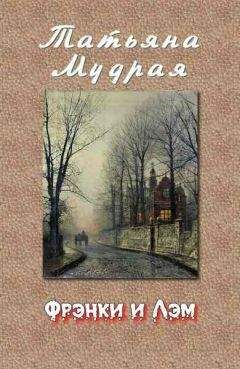Карсон Маккаллерс - Отражения в золотом глазу
— Перестань бегать, дурочка, — приказала Беренис. — И положи нож.
— У нас будет много встреч. С кем захотим. Мы просто будем подходить к людям и сразу знакомиться. Мы пойдем по темной дороге и увидим дом с освещенными окнами, мы постучим в дверь, и навстречу нам бросятся незнакомые его хозяева и скажут: «Входите! Входите!» Мы познакомимся с летчиками, награжденными орденами и медалями, с жителями Нью-Йорка и с кинозвездами. У нас будут тысячи друзей, тысячи и тысячи друзей. Мы станем членами стольких клубов, что не всегда сможем принимать участие в их работе. Мы будем членами всего мира. Гей-гей!
Правая рука Беренис была очень длинной и сильной, и, когда Ф. Джэсмин в очередной раз пробегала мимо нее, эта рука протянулась и схватила ее за нижнюю юбку так резко, что у Фрэнки даже кости хрустнули и лязгнули зубы.
— Ты что, совсем свихнулась? — воскликнула Беренис. Длинная рука дернула Ф. Джэсмин и обняла за талию. — Ты вся вспотела, как мул. Наклонись-ка, я потрогаю твой лоб. У тебя жар?
Ф. Джэсмин схватила одну из косичек Беренис и сделала вид, будто хочет отпилить ее ножом.
— Ты вся дрожишь, — объявила Беренис. — Бегала весь день по такому солнцу, вот у тебя и началась лихорадка. Детка, ты не заболела?
— Заболела? — переспросила Ф. Джэсмин. — Кто, я?
— Сядь ко мне на колени, — сказала Беренис. — Передохни минутку.
Ф. Джэсмин положила нож на стол и села на колени к Беренис. Она откинулась и прижалась лицом к шее Беренис; и лицо и шея Беренис вспотели, и от них исходил кисловато-соленый запах. Правая нога Ф. Джэсмин свисала с колена Беренис и дрожала, но Ф. Джэсмин уперлась пальцами в пол, и дрожь прекратилась. Джон Генри прошаркал к ним в туфлях на высоких каблуках и тоже прижался к Беренис — он ревновал. Обняв шею Беренис рукой, он ухватил ее за ухо, тут же попытался столкнуть Ф. Джэсмин с коленей Беренис, зло ущипнув ее крохотными пальчиками.
— Не приставай к Фрэнки, — прикрикнула Беренис, — она тебя не трогала!
— Я заболел, — сердито сказал он.
— Нет, ты здоров. Успокойся. И не завидуй, что твоей двоюродной сестре досталось немного любви.
— Фрэнки злая и любит командовать, — звонким печальным голосом произнес мальчик.
— Что сейчас она сделала плохого? Она устала, и ей нужно отдохнуть.
Ф. Джэсмин подвинула голову и уткнулась лицом в плечо Беренис. Спиной она ощущала большую мягкую грудь Беренис, мягкий круглый живот и теплые плотные ноги. Сначала Ф. Джэсмин дышала учащенно, но через минуту ее дыхание сделалось ровным, она стала дышать в такт с Беренис; они сидели так тесно прижавшись друг к другу, что их можно было принять за одного человека; жесткие руки Беренис крепко обнимали Ф. Джэсмин. Окно было у них за спиной, а перед ними — темнеющая кухня. Наконец Беренис вздохнула и заговорила, чтобы закончить их последний странный разговор.
— Кажется, я догадываюсь, к чему ты клонила, — сказала она. — Все мы словно в западне. Мы рождаемся именно такими, а не другими, и не знаем почему. Мы пойманы, как в западню. Я родилась Беренис. Ты родилась Фрэнки. Джон Генри родился Джоном Генри. Может быть, нам хочется вырваться из западни, вырваться на свободу. Но что бы мы ни делали, мы остаемся в ней. Я — это я, ты — это ты, а он — это он. Каждый из нас находится в западне у самого себя. Ты это хотела сказать?
— Не знаю, — ответила Ф. Джэсмин. — Но я не хочу быть пойманной.
— И я не хочу, — заявила Беренис, — никто не хочет. И моя западня крепче.
Ф. Джэсмин понимала, почему Беренис сказала это, и вопрос задал Джон Генри:
— Почему?
— Потому что у меня черная кожа, — ответила Беренис. — Потому что я цветная. Каждый пойман в какую-нибудь ловушку. Но цветные — за двойной решеткой. Нас всех загнали в один угол. И потому мы в ловушке, как все люди. И в двойной ловушке, потому что мы черные. Иногда молодые ребята, вроде Хани, чувствуют, что им больше нечем дышать. Такой парень чувствует, что либо он что-нибудь сломает, либо сам сломается. И порой нам уже невмоготу.
— Мне это понятно, — сказала Ф. Джэсмин. — Хорошо бы, у Хани все устроилось как надо.
— Он чувствует, что ему уже нечего терять.
— Да, — заметила Ф. Джэсмин, — иногда мне тоже хочется что-нибудь сломать. У меня даже бывает желание разрушить этот город.
— Ты уже говорила это, — сказала Беренис. — Но что толку? Все дело в том, что мы в западне. И мы стараемся освободиться любым путем. Вот, скажем, я и Луди. Когда я была с Луди, я забывала про западню. Но потом Луди умер. Мы суетимся, занимаемся своими делами, и мы все время в западне.
От этого разговора Ф. Джэсмин стало почти страшно. Она тесно прижалась к Беренис, и они дышали очень медленно. Джон Генри встал сзади на перекладину стула и обнял Беренис за голову. Потом ухватил ее за уши, и Беренис взмолилась:
— Детка, перестань крутить мои уши. Мы с Фрэнки ведь не улетим сквозь потолок и не оставим тебя одного.
Вода медленно капала в раковину, за стеной все шуршала мышь.
— Кажется, я понимаю, о чем ты говоришь, — сказала Ф. Джэсмин. — Только вместо «в западне» можно, по-моему, сказать «неприкаянный», хотя эти слова противоположны по смыслу. То есть идешь и видишь разных людей. И мне они кажутся неприкаянными.
— Нераскаянными, что ли?
— Да нет же! — воскликнула Ф. Джэсмин. — Просто со стороны не видно, что их связывает друг с другом. Не знаешь, откуда они приехали и куда уезжают. Например, почему они приехали в этот город? Откуда все они приехали и что собираются делать? Вот, скажем, все эти солдаты в городе.
— Все они родились, — ответила Беренис, — и все умрут.
Голос Ф. Джэсмин стал высоким и тонким.
— Это я знаю. Но как же все-таки это получается? Люди в ловушке и в то же время неприкаянные. В ловушке и неприкаянные. И не знаешь, что у них общего. Ведь должна же быть какая-то причина и связь. Но я не знаю, как это назвать. Не знаю.
— Если бы ты знала, ты была бы богом, — сказала Беренис. — Ведь так?
— Может быть.
— Мы знаем от сих и до сих. А больше нам знать не дано.
— А мне хотелось бы!
Спину Ф. Джэсмин свело; она заерзала и потянулась. Ее длинные ноги скользнули далеко под стол.
— Как бы то ни было, — продолжала она, — когда мы уедем из Уинтер-Хилла, мне уже не придется мучиться из-за всего этого.
— А сейчас кто тебя заставляет мучиться? Никто не требует, чтобы ты нашла ответ на все загадки мира. — Беренис глубоко и многозначительно вздохнула и добавила: — Фрэнки, ну и острые же у тебя кости!
Ф. Джэсмин явно надлежало слезть с колен. Сейчас она зажжет свет, возьмет из духовки кекс и пойдет в город заканчивать свои дела. Но она еще секунду прижималась к плечу Беренис. Звуки летнего вечера смешивались и растягивались.
— Мне еще никогда не приходилось говорить про то, о чем мы сейчас говорим, — наконец сказала Ф. Джэсмин. — Но еще одно. Не знаю, приходилось ли тебе когда-нибудь над этим задумываться. Вот мы сейчас сидим здесь. Сейчас, в эту самую минуту. Но пока мы разговариваем, эта минута проходит, и она уже никогда не вернется, никогда в жизни. Когда минута проходит, она проходит навсегда, и никакая сила на земле не может ее вернуть. Она ушла навсегда. Ты об этом когда-нибудь думала?
Беренис ничего не ответила. В кухне стало совсем темно. Все трое молчали, обнявшись, и слышали и чувствовали дыхание друг друга. И вдруг — они так и не поняли, почему и как это началось, — они заплакали. Заплакали все трое одновременно так же, как в это лето они неожиданно начинали петь. В этом августе, когда наступала темнота, им случалось хором запеть рождественский гимн или какой-нибудь модный блюз. Иногда они заранее знали, что запоют, и договаривались, какую песню им спеть.
Но иногда договориться им не удавалось, и тогда они одновременно запевали три разные песни, пока наконец их мелодии не сливались в одну и они не запевали совершенно новую песню, которую сочиняли втроем. Джон Генри пел высоким заунывным голосом, и как бы он ни называл свою песню, она никогда не менялась — одна высокая дрожащая нота, как музыкальный потолок, перекрывала всю песню. Голос Беренис звучал печально, низко и отчетливо, каблуком она отстукивала такт. Прежняя Фрэнки пела то низко, то высоко, где-то между Джоном Генри и Беренис, так что их три голоса сливались и звучали, как один.
Они часто пели так, сидя на кухне, и в августовских сумерках их песня звучала нежно и загадочно. Но плакать им еще никогда не случалось. И хотя у каждого из троих была своя причина плакать, они заплакали одновременно, как будто заранее договорились об этом.
Джон Генри плакал потому, что он ревновал, хотя потом и пытался утверждать, будто испугался мыши за стеной. Беренис плакала из-за разговора о цветных, а может быть, из-за Луди, а может быть, кости Ф. Джэсмин были действительно острыми. Ф. Джэсмин сама не знала, почему плачет, но позже ссылалась на свою короткую стрижку и заскорузлые локти. Так они плакали, сидя в темноте, целую минуту и остановились так же неожиданно, как и начали. Непонятный звук испугал мышь, и она затихла.