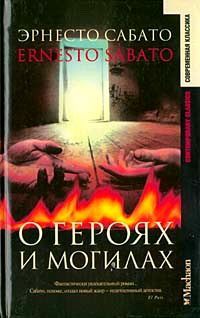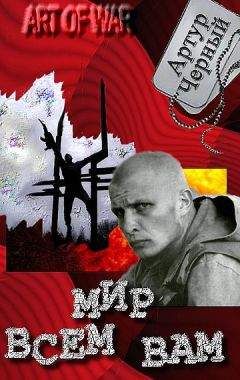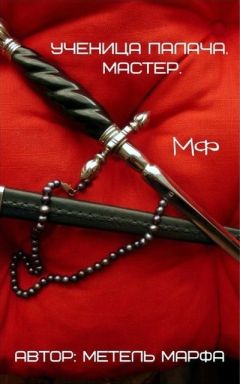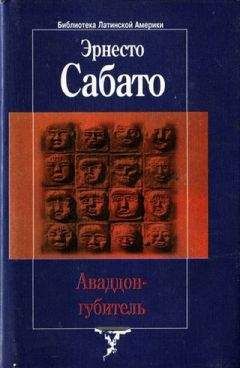Эрнесто Сабато - О героях и могилах
Лицо Алехандры вдруг как бы постарело.
– Ты знаешь, пока я еще не могу сказать, когда мы увидимся.
Убитый этими словами, Мартин что-то промямлил насчет того, что они ведь только сегодня условились о завтрашней встрече. Тогда она воскликнула:
– Я себя плохо чувствую! Неужели ты не видишь? Мартин повернулся и пошел прочь, а она тем временем открывала калитку. Вдруг он услышал, что она его зовет:
– Погоди.
Уже менее жестко она сказала:
– Завтра утром я ему позвоню и к полудню сообщу тебе.
И, входя в сад, прибавила с недобрым колючим смешком:
– Обрати внимание на его секретаршу, эту блондинку.
Мартин смущенно взглянул на нее.
– Это одна из его любовниц.
Таковы были события того дня. Потребовалось немало времени, прежде чем Мартин вновь мысленно вернулся к той встрече с Борденаве, – так после совершенного преступления внимательно осматривают место или предмет, которым прежде не придавали значения.
ІІ
Много лет спустя, когда Мартин уже вернулся с юга, одной из тем их бесед с Бруно были отношения между Алехандрой и Молинари. Он снова говорит об Алехандре – думал Бруно – как человек, желающий восстановить целостность некоей уже исчезающей души, души, которую хотел бы видеть бессмертной, но которая – он чувствует – постепенно поддается тлению и распаду, словно повторяя разложение тела, словно ей невозможно слишком долго существовать без этой своей опоры и бытие ее ограничено тем сроком, пока еще реет тончайшая эманация, отделившаяся от тела в смертный миг, – нечто вроде флюидов или радиоактивного газа, в дальнейшем мало-помалу испаряющееся, нечто, почитаемое призраком покойного, призраком, который хранит смутные контуры исчезнувшего существа, все более и более расплывчатые, пока не растворится в окончательном ничто; вот момент, когда душа, пожалуй, исчезает навсегда – стоит уйти в небытие этим осколкам ее или отголоскам осколков, еще хранящимся – надолго ли? – в душах других людей, тех, кто знал, кто ненавидел или любил исчезнувшее существо.
И Мартин, стараясь собрать эти осколки, бродил по улицам и их обоих излюбленным местам, беседовал с Бруно, безрассудно подбирал какие-то детали и словечки – как обезумевшие родственники, пытающиеся собрать воедино изуродованные останки на месте крушения самолета, причем не сразу, а много времени спустя, когда те уже разложились.
Ничем иным Бруно не мог объяснить упорство, с каким Мартин пытался вспоминать и анализировать историю с Молинари. И пока в мозгу у Бруно возникали мысли о теле и о распаде души, Мартин, как бы беседуя с самим собою, говорил, что, по его мнению, та нелепая встреча с Молинари была, безусловно, решающей в его, Мартина, отношениях с Алехандрой; встреча, которая тогда очень его удивила и тем, что Алехандра ее добилась, зная – а она наверняка знала, – что Молинари не даст ему работы, и тем, что Молинари, такой важный и занятой господин, уделил столько времени ему, совершенно незначительному юноше.
Если бы в тот момент – думал Бруно – у Мартина была в мыслях такая же ясность, как теперь, он мог бы заметить или хотя бы заподозрить, что в Душе Алехандры назревало что-то, готовое взорваться; и по этим признакам он мог бы догадаться, что ее любовь к Мартину, или привязанность, или что там еще, приближалась к своему концу – и катастрофически быстро.
– Мы все должны работать, – сказала ему тогда Алехандра. – Труд облагораживает человека. Я тоже решила пойти работать.
Несмотря на иронический тон, эти слова обрадовали Мартина – он всегда думал, что какое-то конкретное дело было бы для нее полезно. И выражение его лица побудило Алехандру сказать: «Я вижу, ты рад этой новости», – тоном, в котором еще звучал прежний сарказм, но сквозь него чуть заметно пробивалась нежность, словно бы на пустынном поле, усеянном после какого-то бедствия (думал он позже) раздувшимися, зловонными трупами животных, среди исклеванных и изодранных стервятниками останков вопреки всему пробивается, тянется вверх былинка, высасывая невидимые капельки влаги, чудом сохранившиеся в глубинных слоях почвы.
– Но особенно радоваться тебе не следует, – прибавила она.
И так как Мартин недоуменно посмотрел на нее, объяснила:
– Я буду работать с Вандой.
И тут его радость исчезла – говорил он Бруно, – его охватило отвращение, словно при виде кристально чистой воды, о которой знаешь, что она попадает в канализацию и смешивается там с мерзостными нечистотами. Потому что Ванда принадлежала к миру, откуда, по-видимому, пришла Алехандра, когда встретила его (вернее, «когда отыскала его»), к миру, от которого она держалась вдали в те недели относительного покоя; хотя было бы вернее сказать «ему казалось, что она держалась вдали», теперь-то он с ужасом вспоминал, что в последние дни Алехандра стала опять, как прежде, много пить и ее исчезновения и отлучки становились не только все более частыми, но и все менее объяснимыми. И подобно тому, как трудно вообразить себе злодеяние в солнечный ясный день, столь же невозможным казался ее возврат в тот мир, когда между нею и Мартином завязались такие чистые отношения. И он по-дурацки (это определение было добавлено много спустя) ляпнул: «Женская одежда? Моделировать женскую одежду? Ты?» На что она возразила: неужели он не понимает удовольствия зарабатывать деньги занятием, которое презираешь? Эта фраза показалась ему в тот миг очень характерной для Алехандры, однако после ее гибели у него были причины вспоминать ее с душераздирающей болью.
– Кроме того, это вроде бумеранга. Понимаешь? Чем больше я презираю этих размалеванных гусынь, тем больше презираю самое себя. Вот мы и квиты, разве тебе не понятно?
Эти ее слова не давали ему уснуть всю ту ночь. Пока усталость не оттеснила его мягко, но неумолимо, к тому, что Бруно называл временным предместьем смерти, к областям-предвестникам, в которых мы постепенно учимся великому сну, к робким, неуклюжим наброскам окончательно гибельного шага, к неразборчивым черновикам загадочного конечного текста, к которому мы движемся через преходящий ад кошмаров. И на следующий день мы уже не те, что раньше, – нас гнетут таинственные и ужасные ночные переживания. Поэтому в такие дни мы чем-то подобны воскресшим или же призракам (так говорил Бруно). Быть может, его в ту ночь преследовало некое злобное воплощение души Ванды, но утром он долго ощущал, как нечто гнетущее и непостижимое шевелилось в темных недрах его естества, пока не понял, что это образ Ванды смущает его. И, на беду, он понял это, уже войдя в ту импозантную приемную, когда по своей робости он отступить уже не мог и когда ощущение своего несоответствия окружающему достигло предела: это как в рассказе Чехова или Аверченко (думал он), где жалкий бедняк пробивается к самому директору банка, дабы решительно объявить, что желает открыть счет и положить двадцать рублей. Что за безумие? Он был готов собраться с духом и уйти, но вдруг услышал, как испанец-посыльный сказал «сеньор Кастильо». Конечно, с иронией (подумал он). Ибо никто не испытывает такого презрения к жалким беднякам, как жалкие бедняки в униформе. Вокруг с толстыми портфелями сидели на массивных кожаных креслах благовоспитанные господа в сияющих башмаках и в жилетах – верхняя пуговица изящно не застегнута – и глядели на него с недоумением и иронией (думал он), когда он направлялся к высоким дверям, мысленно повторяя «двадцать рублей» с убийственной насмешкой над самим собою, над своими дырявыми башмаками и костюмом в пятнах; все они такие солидные, у каждого на запястье золотые часы, показывающие точное время, тоже золотое, время, заполненное Важными Финансовыми Операциями, время, составляющее разительный контраст с долгими, бессмысленными периодами его жизни, когда он ничего не делает, лишь думает о какой-то скамье в парке, с крохами его растерзанного времени, являющего такой же контраст с их позолоченным временем, как его каморка в Боке – с роскошным зданием «ИМПРА». И в тот самый миг, когда он проник в священные пределы, он подумал: «У меня жар», как всегда бывало в минуты большой тревоги. Мартин увидел человека, сидящего в громоздком кресле за грандиозным письменным столом, человека мощного телосложения, будто нарочно созданного для этого здания. И с нелепым пылом мысленно повторил: «Я пришел, сударь, положить на счет двадцать рублей».
– Садитесь, пожалуйста, – сказал господин, указывая на одно из кресел и одновременно подписывая Документы, которые ему подавала крашеная блондинка весьма чувственной внешности, что повергло Мартина в еще большее смущение – наверно, она (думал он) способна раздеться догола перед ним, как перед манекеном, предметом без мыслей и чувств, – так раздевались знаменитые фаворитки перед своей челядью. «Ванда», – подумал он вдруг, да, Ванда, пьет джин, кокетничает с мужчинами, с ним самим, вызывающе смеется, то и дело облизывает губы, уплетает конфеты, как его мать; между тем он смотрел на хромированный стержень на письменном столе с миниатюрным аргентинским флагом, на кожаный бювар, на огромный портрет Перона с надписью сеньору Молинари, на дипломы в рамках, на фотографию в кожаной оправе, обращенную к сеньору Молинари, на пластмассовый термос и на висящее на стене стихотворение «Если» [39] Редьярда Киплинга, напечатанное готическим шрифтом и оправленное в рамку. Служащие, чиновники без конца входили и выходили с бумагами, сновала туда-сюда крашеная секретарша – вот она вышла, потом появилась снова, чтобы показать шефу другие Бумаги и что-то сказать ему вполголоса, однако без тени фамильярности, так что никто, тем паче служащие Фирмы, не мог бы заподозрить, что она спит с сеньором Молинари. И, обращаясь к Мартину, она сказала: