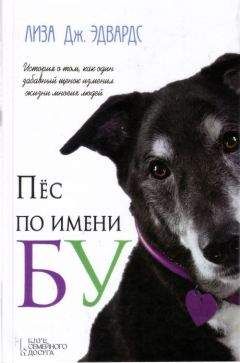Жоржи Амаду - Подполье свободы
Плаксивый голос тети Эрнестины отвлек Мануэлу от этих мыслей и вернул к действительности:
– Лукас! Лукас! Пора сходить.
Дети уже были на середине улицы, когда старики осторожно, потихоньку, еще только сходили с трамвая. Мануэла дотронулась до руки брата.
– Приехали, Лукас!
Молодой человек вздрогнул. Когда он встал, то оказался высокого роста и атлетического телосложения, с широкими плечами и сильными руками. Он поддержал сестру, пропустив ее вперед, затем помог тете Эрнестине, застрявшей на подножке трамвая. Мануэла выпрямилась; она тоже была высокой, но тонкой и хрупкой; волосы ее падали на плечи, на нежных руках виднелись голубые жилки; эти руки были так бледны, будто не знали солнца. Когда она сошла, какой-то человек, ожидавший с приятелем трамвая, чтобы отправиться в бар и скоротать там ночь, с радостным изумлением воскликнул:
– Вот это девушка! Похожа на старинную фарфоровую фигурку… Какая красотка!..
Мануэла услышала, но не обернулась, хотя ей и хотелось узнать, от кого исходила похвала. А приятели продолжали свои наблюдения.
– Да вся семья, видимо, только что сбежала из музея… Ты только взгляни на эту потешную старуху в шляпе с цветами, на накидку старика, сохранившуюся со времен империи. А парень… В этом тесном костюмчике он похож на паяца.
Паяц… Мануэла посмотрела на Лукаса, который нес одного из мальчиков, тащил за руку девочку и вместе с тем наблюдал за стариками, растерявшимися среди этого движения. Паяц… Для нее не было в мире более красивого человека, чем ее брат, даже в этом коротком изношенном костюме, в стоптанных башмаках и обтрепанной рубашке. Нет, он не паяц!
И она повернулась к этим злословящим по их адресу молодым людям, в голосе ее зазвучал металл, который иногда, в минуту возбуждения свойственен тем, кто обычно держится скромно:
– Придет время, вы еще будете лизать пятки этому паяцу!
Один из приятелей захохотал, но другой с еще большим интересом уставился на Мануэлу, которая напоминала ему старинную миниатюру: прозрачное розовое лицо, тонкая кожа, большие, казавшиеся испуганными глаза, рот с бледными губами. «Какая прелесть!» – подумал он, и ему захотелось попросить у нее прощения. Однако Мануэла уже пересекла улицу, ведя младшего племянника к центральному входу в луна-парк, откуда дед, бабушка и тетя Эрнестина уже звали ее раздраженными голосами.
10
Мануэла не сомневалась, что именно музыка как бы управляла всеми огнями и всем движением в луна-парке. Семья остановилась у зеленой деревянной ограды, окружавшей карусель; все пришли в восхищение от пианолы, которую услышали впервые в жизни. Даже дети, возбужденные до предела зрелищем вращающихся лошадей, тигров, лебедей, драконов и сирен с сидящими на них ребятами, молчаливо созерцали музыкальный ящик, из которого разливалась забытая старинная мелодия, романтичная и волнующая.
Лукас держал билеты, купленные им для племянников и Мануэлы – кому-то ведь нужно было присмотреть за самым маленьким. «Говорит ли ему что-нибудь эта любовная мелодия?» – спрашивала себя Мануэла. Лукас никогда не рассказывал ей о своих возлюбленных. Можно было подумать, что у него не оставалось времени на личную жизнь. Еще меньше могла бы рассказать об этом сама Мануэла. Но хотя она и не хранила в сердце ничьего близкого образа, все же почувствовала всю глубину отчаяния в рыдающей мелодии музыки. Стоявшая возле пианолы женщина в костюме балерины пела чуть хриплым голосом:
Не говорю тебе «прощай»,
Хоть ты уходишь навсегда.
Не говорю тебе «прощай»,
Хотя «прощай» ты мне сказала…
Когда-то, кто знает, сколько лет тому назад, кто-то покинул композитора. А теперь его безнадежный любовный призыв глубоко взволновал нетронутое сердце Мануэлы. «Ощущает ли волнение Лукас?» – спрашивала она себя. Она хотела бы знать все, что касается жизни брата, узнать, что с ним происходит вне дома, когда он находится в магазине – восемь часов в день – или на улице, когда он выходит по вечерам, спасаясь от скуки семейного очага. Нежно заботясь о нем, она угадывала его чувства, мечты и желания. Однако он никогда не рассказывал в семье о своих делах, лишь один-два раза открылся, причем только Мануэле, и рассказал о своих грандиозных, но еще туманных планах, о том, что он с нетерпением ждет возможности проявить себя. Он не скрывал ненависти, которую питал к мануфактурному магазину, к хозяевам, к другим приказчикам, а в особенности к покупателям – этой сволочи, как он их называл.
– Когда-нибудь брошу все это и отправлюсь наживать деньги, – сказал он, и глаза его стали еще темнее, их как бы заволокла завеса честолюбия. Он упорно повторял: – Я должен стать богатым, Мануэля. Но только богатым по-настоящему, у меня должны быть банки, особняки, слуги, автомобили – все блага жизни. Как бы ни было, что бы ни произошло, – я этого добьюсь!
Мануэла понимала, что он говорил так прежде всего потому, что уверенность в будущем переполняла его. Это было больше, чем признание, это было чем-то вроде повторения ранее принятого решения, как будто, рассказывая свои планы Мануэле, он чувствовал еще большую обязанность выполнить их. Она его воодушевляла. Да, в один прекрасный день он станет богатым, будет иметь банки, особняки, автомобили и слуг. И тогда они покинут свой сырой, мрачный дом и в аромате дорогих духов забудут жуткий запах плесени, которым они словно пропитались сами.
– Когда я разбогатею, выдам тебя замуж за сказочного принца… – как-то перед уходом сказал он Мануэле и вышел на улицу, обуреваемый своими мечтами и планами, с огнем честолюбия в глазах.
Она оставалась дома, обреченная слушать ворчанье бабушки, разговоры деда о хроническом насморке, нескончаемые молитвы и сложные обеты тети Эрнестины, которые она давала святым, – изображения их были развешаны по стенам ее комнаты. Кроме всего этого, Мануэла должна была присматривать за детьми. Иногда ей удавалось уединиться, чтобы помечтать о Лукасе, о его еще дремлющей силе и о сказочном принце, про которого он ей говорил.
Встречавшиеся на улице молодые люди поглядывали на нее, некоторые отпускали шутки, говорили комплименты, были и такие, что посылали ей письма с объяснениями в любви, а однажды в сумерках, когда она шла в булочную, какой-то старик сделал ей гнусное предложение. Она не рассердилась даже и на этого старика, который начал свое обращение с того, что назвал ее «моя очаровательная милашка». Но вместе с тем, ей никто не нравился, она никогда не отвечала на приставания или на письма, а что касается циничного старика, то Мануэла посмотрела на него такими удивленными глазами, что он оборвал фразу на полуслове и, пристыженный, удалился. У нее было мало времени на то, чтобы сидеть у окна или разгуливать по улице, и с тех пор, как она ушла со второго курса лицея (со смертью родителей стало невозможным продолжать занятия), она ни в кого не влюблялась.
В такие вечера, когда Лукас делился с ней своими мечтами, она долго не могла заснуть. Затхлая сырость дома, грустный вид давно не крашенных стен с осыпающейся штукатуркой, тяжелый запах плесени, от которого она задыхалась, – все это наводило на нее уныние. Ах, если бы сбылись мечты брата, если бы он разбогател!.. Пусть у него будет не так много, как ему хочется. Пусть не будет ни банков, ни особняков, ни автомобилей, ни слуг. Лишь бы у него было немного денег, чтобы они могли переехать в сухую комфортабельную квартиру, поместить старшего мальчика в колледж и нанять прислугу для уборки комнат и мытья посуды… Ведь будь Мануэла религиозна, она подобно тете Эрнестине обещала бы святым все что угодно, лишь бы Лукас хоть чуть-чуть разбогател. Но она уже давно перестала верить в бога – результат чтения некоторых книг, влияние одного из преподавателей лицея, а главным образом монотонности их существования.
Иногда она вспоминала этого учителя, которого учащиеся прозвали «вольным мыслителем». Он сам называл себя так на уроках, оживлявшихся дискуссиями и представлявших резкий контраст с другими, скучными и утомительными, занятиями. В памяти Мануэлы осталось воспоминание об этом прекрасном человеке, уже в летах, с начинающими седеть волосами, со звучным голосом, с вечной сигаретой в зубах, с глазами, которые у него обычно были воспалены от бессонных ночей, проведенных в кафе за выпивкой или дома за чтением литературы. Девушки, смеясь, шопотом рассказывали о нем пикантные и любопытные истории: он много пьет, посещает дома терпимости, у него бог весть сколько женщин, и он сочиняет сонеты. Он был заядлым противником церкви и португальцев. Уроки его представляли особую привлекательность для учащихся, потому что он любил спорить и рассказывать всякие истории, не жалея слов и жестов. Его драматические повествования из времен инквизиции приводили Мануэлу в содрогание. Но если ему не удалось внушить ей антипатии к португальцам (учитель приписывал все несчастья Бразилии португальской колонизации, между тем как у Мануэлы были в то время симпатичнейшие соседи португальцы, на редкость хорошие люди), зато он сумел отвлечь ее от церкви и от попов.