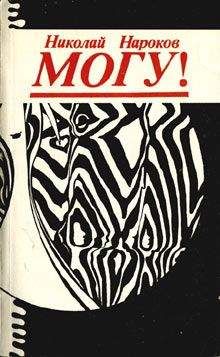Робер Мерль - За стеклом
— Куришь? — спросил он.
— Да.
— Погоди, — сказал Давид торопливо. — У меня есть курево.
— Да не стоит, — сказал Абделазиз вежливо.
Давид вытянул из пачки последнюю сигарету и просунул руку через окно.
— Мне не подойти, — сказал Абделазиз, — завязну. Бросай!
Давид отвел руку назад и бросил сигарету. В ту же секунду Абделазиз наклонился вперед, вытянув перед собой руки. Сигарета описала дугу, вертясь в воздухе, порыв ветра подхватил ее, и она упала в свежий гудрон. Абделазиз выпрямился, лицо у него было расстроенное.
— Обидно, — сказал он. — Пропала твоя сигарета.
Они помолчали. Они глядели на грязную сигарету, почерневшую, пропащую. Это была неудача. Они чувствовали, что их постигла неудача. Абделазиз топтался на месте, и Давид понял, что ему хочется уйти.
— Завтра тоже будешь работать здесь? — сказал Давид.
— Да.
— Увидимся?
— Да.
Они помолчали.
— Послушай, — сказал Давид, — если мы не увидимся, приходи ко мне в общагу, корпус 3. — Он назвал этаж и номер комнаты.
— Корпус 3, — повторил Абделазиз без всякого энтузиазма. — Привет, — сказал он смущенно.
— Привет.
Абделазиз пошел, не оборачиваясь, и присоединился к своим товарищам. Они сидели бок о бок, положив руки на колени. Один из них поднял на Абделазиза утомленные глаза и сказал по-арабски, возмущенно взмахнув руками:
— Ну, это еще что за новости?
— Ничего, — сказал Абделазиз, — я разговаривал с этим симпатичным руми.
Тот остановил на нем свой грустный взгляд, несколько раз покачал головой и сказал низким гортанным голосом:
— Симпатичных руми нет. Нет. Нет.
III
Мало радости идти сейчас в рест, проторчишь в очереди часа полтора. Если б еще с девочкой, а то стой один. К тому же бутерброд с сосиской в кафетерии стоит всего франк, экономия сорок сантимов, можно выпить кофе в баре реста. Менестрель был почти уверен, что встретит там кого-нибудь из ребят. Он спустился, пританцовывая, по лестнице корпуса В — ступенька, две ступеньки, пируэт на площадке; мысль о страшилах он решительно подавил, там будет видно, в конце концов, не так страшен черт, как его малюют. Он вышел в центральную галерею. В этот час галерея была заполнена студентами, лекционные аудитории изрыгали их сотнями. Менестрель (1,73 м, но при известной настойчивости в ближайшем будущем 1,75 м) выпрямился во весь рост и с трудом проложил себе путь в кафетерий. Едва хлеб с сосиской оказался у него в руках, он понял, что бутерброд — несмотря на свой стандартный размер — смехотворно мал. Под ложечкой сосало, голова кружилась, ноги подкашивались, в мыслях путаница: через два часа ему опять захочется есть, а брюхо будет нечем набить до семи. Он вернулся в центральную галерею с уже наполовину съеденным бутербродом — спокойно, растянем удовольствие, будем жевать тщательно. Он шел небольшими шажками, точно, замедлив движение, можно было продлить процесс еды.
Около больших лекционных аудиторий Менестрель заметил служителя Фейяра, оживленно беседовавшего с каким-то сослуживцем. Он тотчас переложил бутерброд из правой руки в левую. Как-то, когда он вышел с лекции Перрена, Фейяр спросил, не его ли пиджак остался там, в заднем ряду: «А, вот видите, ваш! У меня глаз наметанный». И с тех пор Менестрель, встречая служителя, всегда перекидывался с ним несколькими словами.
— Добрый день, — сказал Менестрель весело, пожимая руку служителя, — ну, я вижу, живот вас не так мучает, вы курите.
— Да уж, — сказал Фейяр, — при моей болезни курить, особенно до еды, чистое безумие.
Он взглянул на второго служителя, покачав головой. Оба они были среднего роста, уже седоватые, с животиками, лица усталые. Менестрель подумал: по сравнению с профом того же возраста пролетарий всегда выглядит старше — трудная жизнь, некогда подумать о себе.
— Да и вы хороши, — сказал Фейяр с добродушной улыбкой, — думаете, очень разумно съедать бутерброд вместо обеда, точно вы барышня? В вашем возрасте есть нужно как следует.
— Никак не дождусь стипендии, — сказал Менестрель, — вот получу ее, увидите, хватает ли мне одной сосиски.
— Ну, желаю вам, — сказал Фейяр, дружески смеясь.
— Ладно, я бегу, — бросил Менестрель, всецело во власти своего хитроумного замысла, — иду в рест выпить кофе.
— Привет, — сказал Фейяр, глядя ему вслед. — Этот паренек, — сказал он растроганно собеседнику, — никогда не пройдет мимо, обязательно остановится, поздоровается, поболтает. Мне это, не скрою, приятно.
Служители понимающе переглянулись, удрученно покачали головами.
— Ведь вообще-то студенты… К мебели и к той относятся внимательней.
— Как бы ни так, — сказал второй служитель, — мебель они как раз ломают.
— Да еще о наши спины, — сказал Фейяр. — Ну как им не совестно? Мы-то при чем? Разве мы не на службе находимся? Что же нам глядеть, сложа руки, как они пихают господина декана? А они сразу оскорблять, драться. «Легавый», — говорит мне какой-то сопляк. — «Фашист». И раз по башке ножкой от скамейки. А что я ему в отцы гожусь, это плевать. Ну и молодежь пошла.
— Да уж, языком трепать и драться, это они умеют, никто им не указ. И заметь, всегда непременно в послеобеденные часы, — сказал второй служитель, вскинув правую руку, — утром все спокойно: господа изволят почивать! Станут они устраивать революцию утром! Утро неприкосновенно, утром деточки бай-бай! Они встают в полдень, эти господа, как кокотки. Была б моя воля, я бы работал только в утреннюю смену.
— Ну и дела, — подхватил Фейяр, — у тебя родители, которые могут заплатить за обучение, а ты занимаешься чем угодно, только не учишься. Вот уж никогда не скажешь, что образованные: грязные, невоспитанные, невыдержанные, вечно сквернословят, технический персонал ни в грош не ставят. А еще говорят, что защищают интересы пролетариата. Попробуй поспорь с ними, одну брань и услышишь. Я как-то говорю им: как же вы, защитники народа, нас, служителей, избиваете? Знаешь, что они мне ответили? Вы, говорят, предали собственный класс! Вы на службе у буржуазии! Нет, ты только подумай, какая глупость, — продолжал Фейяр, покраснев от возмущения, — как будто любому пролетарию, чтобы заработать себе на хлеб, не приходится идти на службу к буржуазии! Разве на заводе по-другому?
Менестрелю, в сущности, здесь очень нравилось. Есть ребята, которые критикуют эту галерею, но, по-моему, идея совсем неплоха. Связать между собой различные корпуса, вывести сюда все большие аудитории: единственная главная улица городка с двенадцатью тысячами жителей. Здесь сосредоточено все — секретариаты, почта, бюро находок, стеклянные кабинки служителей, киоск Ашетта, кафетерий. Даже освещение и то непрерывно меняется; от корпуса Г до корпуса А чередуются темные зоны — когда галерея превращается во внутренний коридор, и зоны светлые — когда она пролегает между корпусами. Как правило, скамьи расставлены вдоль стен именно на этих участках. Менестрель рассмеялся про себя, пережевывая размякший хлеб. Скамьи, знаменитые скамьи, которые гошисты месяц назад разнесли в щепы, вооружаясь против полиции. Пошли они, эти группки, известно куда! Но оскорблять декана, тут я против. И все же, когда явились полицейские, я тоже полез в драку, терпеть тут фараонов — нет уж, дудки, это последнее дело. А декан, конечно, дал маху — его обзывают «легавым», а он в ответ призывает полицию!
Менестрель сердито оглядел последний кусок своего бутерброда. Говоришь себе, нужно экономить, но нет, это невозможно. Он снова замедлил шаг. А жаль скамей, на них обычно сидели девочки — по две, по три, маленькими тесными кучками, и не прямо, а всегда как-то бочком, нога на ногу или скрестив лодыжки, юбка выше колен, в руках стаканчик кофе или, сигарета, или такой, как у меня, бутерброд с сосиской, который, увы, я уже доел. Он вынул из кармана голубой носовой платок, точнее, серый с голубыми полосками, подаренный, вместе с еще пятью такими же, тетей Гизлен, бедной Тетелен. Мерзкая припискам послании госпожи матушки, in cauda venenum,[8] для нее нет большей радости, чем неприятности ближнего. Я уже замечал, что, когда у нее умирает какая-нибудь приятельница ее лет, она ощущает блаженное чувство собственного бессмертия. Он с нежностью развернул платок и вытер им пальцы, один за другим. С ним поравнялась Даниель Торонто, бросила быстрый взгляд, он меня даже не заметил, идет, занятый своими мыслями, жизнерадостный, красивый, непринужденный, бродит, как молодой волк, глаза горят, разглядывает всех девочек, ни одной не пропустит, да нет, не всех, он знает, на кого смотреть, меня-то он даже не заметил. И вообще, разве в Нантере имеет какое-нибудь значение, что вы учитесь на одном Факе? Да и сам Нантер для студента — пустое место. Кто из нас осматривал мэрию, церковь, познакомился хотя бы с одним из 40000 нантерских рабочих, хотя бы с одним алжирцем из 10000, живущих в бидонвилях? Все эти миры существуют бок о бок, но не сообщаются один с другим. Даниель торопливо шагала, чуть наклонившись вперед, глядя в пол. Она думала с тоской: три замкнутых мира, никаких контактов. Нантер, бидонвили, Фак. Три соседствующих гетто, и Фак худшее из них. В бидонвилях люди по крайней мере друг друга знают, друг другу помогают, они несчастны сообща. А здесь — полная изоляция, чудовищная обезличенность. Никто ни для кого не существует. Сколько нас сейчас здесь, в галерее? Восемь тысяч? Десять? Мы чужие друг другу, как пассажиры на вокзале, вот именно: Нантерский фак это и есть вокзал! Неописуемая толкучка! Пришвартуешься на час в аудитории — там двести, триста, пятьсот человек, занимаешь место рядом с кем-то совершенно незнакомым, всякий раз другим. А где-то далеко, далеко, на возвышении — микро, из которого вылетают слова, за микро — человек, который жестикулирует. Проходит час, все встают, спускаются по ступеням, толкаются в дверях аудитории, разбегаются в разные стороны, и — конец. Безвыходное одиночество, каждый замкнут в своем Я, в своих жалких личных проблемах, ох, какой ужас, это просто невыносимо, ненавижу этот Нантер! Эти индустриальные казармы, этот кишащий муравейник, гигантизм аудиторий. И больше всего этот коридор — кафкианский коридор, нечеловеческий, нескончаемый.