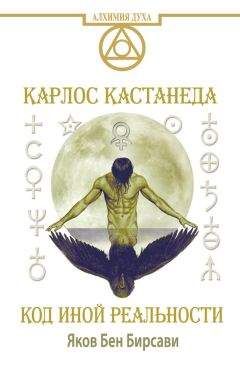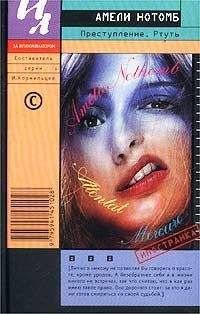Сергей Самсонов - Кислородный предел
И хваткой в Сухожилова железной, но тот ему уже за ворот зеленый ком бумажный впихивает.
— Слышь, друг, ну, надо! Что, не человек? Ты к главрачу меня… Ну, жизнь от этого, судьба!
— Короче, так сейчас я в грузовой тебя. На третьем выйдешь и налево. Потом направо до конца по коридору. Там дверь, табличка медная. Наткнешься на кого — твои проблемы.
— Спасибо, выручил.
И вот уже на третьем он и к главврачу врывается.
— В чем дело? — Пухловатая женщина за массивным столом кажется уютной, теплой, как обмятая подушка, но это впечатление от одного лишь контура, от лицевого абриса, а стоит посмотреть в глаза, печальные и беспощадные, как ты увидишь истинного, бесконечно терпеливого избранника боли; человека, который полжизни провел в непрерывном разделении страданий — поровну, на двоих, на себя и больного, на себя и умирающего.
— Здравствуйте, — он тщится улыбнуться нагло и обезоруживающе, — Елена Григорьевна. Мне это… женщина нужна… ищу я женщину…
— Так, понятно. Есть телефоны, списки, там ты не нашел, ко мне ворвался — дальше что?
— У вас же есть и неопознанные. Насчет бы их узнать.
— Но к ним нельзя — не понимаешь разве? Они ведь потому и неопознанные, что без сознания и сами себя назвать не могут. Опознавать пока что некого, а там — как знать.
— Это женщина, молодая, — Сухожилов долдонит, — двадцать пять — тридцать лет, средний рост, сложение стройное… хрупкое… Что можете сказать?
— Могу. У меня таких четверо — стройных и хрупких.
— Елена, я очень вас прошу… увидеть нужно, очень нужно… ну просто я там с ней был, понимаете? Я вот тут перед вами, и мне ничего, я живой, а она — неизвестно.
— Еще раз повторить? Тут у меня ожоговое — не терапия, ничего другого.
— В смысле?
— Узнать не сможешь, в смысле. От десяти процентов поражений тела и до бесконечности. Мама не узнает, понял? Рано, мальчик, рано. Неделя пройдет, месяц пройдет, вытащим, выходим, в себя придут, тогда — даст бог — посмотрим. Ну, что могу? Терпи.
— Но как же — волосы, глаза… ведь можно?
— Да до корней все волосы. С глазами, в общем, тоже все не слава богу.
— И все равно я вас прошу. И есть ведь документы, вещи, обрывки пусть, но можно ведь судить. И вот еще вопрос: а если не с ожогами — от газа если… то есть от дыма? Ну, отравление вот если, отравление?
— Нет. Такие есть мужчины, женщин нет.
— Прошу вас, разрешите. Надо знать.
— Кто? Девочка твоя?
— Моя, моя. Я, понимаете, все время с ней в гостинице, держал, не отпускал, а дальше… ну в общем, как… оставил… ну в смысле в ванную ее… вы понимаете, ну, в воду… и вот теперь… ну получается, что я… ну сам ее, должно же было быть наоборот… должна она живая, — он улыбается совсем уж идиотской, потерянной улыбкой.
— Ну вот что, мальчик. Сейчас пройдешь, куда скажу, — оденешься. Устроишь мне истерику, тогда не знаю, что я с тобой…
В бахилах, в маске, в шапочке и под конвоем бородатого, очкастого врача он попадает в загерметизированное, как будто безвоздушное пространство отделения ожоговой, в просторный коридор с окрашенными бледной охрой стенами, а дальше — в помещение с множеством разнокалиберных и непрестанно попискивающих мониторов; здесь несут свою вахту, сменяясь, медицинские сестры, и сквозь стекло он может, словно глубоководных рыб, увидеть дюжину больных на койках — вот этих биомеханоидов в тугой, прозрачной паутине дыхательных шлангов, спасительных капельниц, со спутниками банок и пузырей над головами; вчерашних людей, в которых нет ни памяти, ни самой верной, примитивной, инстинктивной, нерассуждающей жадности к жизни. И открывается ему душеубийственное, на грани каннибальской кухни, зрелище обширно, глубоко, неистово прожаренной плоти — изборожденной ярко-красными эрозиями, с сухими пепельными, палевыми корками богоотвратных струпов. Да нет, все самое пугающее закамуфлировано, накрыто, стянуто пропитанными жирно, белыми, как снег, и пожелтевшими спасательными масками, компрессами, повязками, но так, возможно, даже хуже: приходится домысливать и словно инстинктивно, неподотчетно вызывать на собственной сетчатке недостающие, скрытые пазлы картины. Но он уже, как будто щелкнув тумблером, настраивает переводчик с нечеловеческого внешнего на внутренний язык; его интересует, захлестывает горло пуповиной не впечатление, но истина.
Он ищет уцелевшую, нетронутую малость, хотя бы пядь, ладонь — хватается за щиколотку, вцепляется в запястье, впивается в открытые, безумные, какие-то медвежьи глаза с мохнатыми от гноя или опаленными ресницами. Нет, он не фраер, он только на словах беспомощен, в словах схватить бессилен облик, как в дырявый бредень, как в сеть с огромными ячейками, в любую из которых с лихвой пролезет слон, — «рост средний», «нос прямой» и «губы тонкие». Нет, он единственный владеет тайной моментального, предельно верного, неотразимого воспроизводства этих черт, всего телесного состава, каждой малости от солнечной макушки до маленьких ступней — предплечья, кисти, пальцы, лопатки, позвонки, колени, икры, пятки — самой температуры тела, свечения кожи, жара крови. И пусть угодно кто — да хоть олень ее, Нагибин, — сидит перед компьютером и подбирает по подсказкам — прячущего ожесточенные зевки — эксперта нужные глаза и губы, нос, подбородок, скулы, пока не обнаружится в коллекции — что невозможно — хоть сколь-нибудь пригодный, соответствующий натуре вариант, который вытаращится на поисковую команду с настоящей, неподдельно Зоиной беспощадно-доверчивой жадностью.
Он, Сухожилов, обладает монопольным даром — увидеть ту ее, всегдашнюю, по-прежнему неуязвимую, найти среди вот этих механоидов и разглядеть бессмертное лицо сквозь всякие нагары и налеты, сквозь корки сколько угодно плотные. Здесь нет ее… Выходит в коридор, препровожденный дальше, еще осматривает тряпки чужих вещей, но больше — «для очистки совести». Благодарит отрывисто и сухо. И снова в парке он, под окнами, и снова старики вокруг — обычные больные, правильные.
— Ниче, ниче, — бормочет он, сдирая кожу на костяшках о шершавый древесный ствол, — ниче, ниче.
И тут звонок ему — опять осел ревет в мобильнике — Подвигин.
— Ну как там?
— Пусто. У тебя?
— Двенадцать неопознанных, из них три женщины всего. Нет, не она. Уверенно.
— Это как ты? Уверенно?
— Ну как? По фотографии.
— Что, лица есть?
— Конечно. А у тебя вот даже так?.. Слушай, я тут весь персонал решил потеребить — вдруг видел кто, участвовал, запомнил. Ведь тоже вариант. И вот нашел еще — парк «Скорых помощей», они всех по больницам. Давай туда. Похоже, тема.
— Согласен, да. Спасибо.
— Ты это, тезка… ты не падай, в общем. Еще привыкнешь, понасмотришься — нам много предстоит. Эпоха. Пока мы не нашли, не получили однозначного ответа, смысл есть по-прежнему, ведь так?
— Вот это в точку, капитан.
— Не угадал — майор я.
— Тем более, майор, давай их всех за жабры там… — он отключается. «Смысл есть по-прежнему», и Сухожилов хочет, чтобы это продолжалось, и это продолжается и продолжается.
6. «Совет да любовь»
Он приглашает Кругель поужинать в «Венеции», где для него по старой памяти придерживают столик; когда-то он работал с ребятами из «Ваш финансовый обеспечитель», а ресторан принадлежит вот этим, с позволения сказать, «обеспечителям». Без четверти девять — он вяло сожалеет, что не может посмотреть сегодня четыре тысячи сто сорок пятый выпуск «ДОМа-2» и так не узнает до утра, присунул ли Гена Джикия новенькой блондинке Марине Невинчинной, — на входе их встречает осанистый, важный, с серебряными баками метрдотель. На Сухожилове все тот же костюм от Ermenegildo Zegna (из шерсти и шелка, с элементами ручной работы, с широкими лацканами и двойными врезными карманами однобортного пиджака), а на Марине — черное тугое, шелковое платье с открытыми плечами и туфли из черного атласа от Manolo Blahnik, на загорелой шее — нитка искусственного жемчуга, а матовые мочки слегка оттянуты такими же жемчужными сережками из Louvre.
Метрдотель сажает их за стол, и к ним подходит собранная, со сжатыми губами официантка: лицо — как у прыгуньи перед прыжком с пружинящего мостика пятиметровой вышки, а чаевые, выданные Сухожиловым, — как будто золотая олимпийская медаль. Смазливая мордашка, хорошая фигурка. Они здесь все, в «Венеции», как на подбор. За столиком напротив — четверо парней; узнав собрата по разбою, приветствуют кивками, салютуют бокалами с Cinzano Dry. Вообще-то Сухожилов практически не смотрит телевизор, но на «ДОМ» с недавних пор подсел — в последний раз (тогда они входили на большой сталелитейный в Денинске-Кузнецком) он наблюдал с таким же интересом за длинным сериалом о брачной жизни павианов на канале Animal Planet. К тому же он делает это — то есть смотрит «ДОМ-2» — в отместку Камилле, которая до полусмерти задолбала своим трындением о «бездуховности» экранных проституток, об омерзительности процветающего ныне культа вульгарного гедонизма. Ну что за ханжески настроенная — в свои двадцать один — старуха, однообразно причитающая над современной испорченностью нравов? Меняются не нравы, которые две тыщи лет как неизменны, но способы оправдания человеческих слабостей.