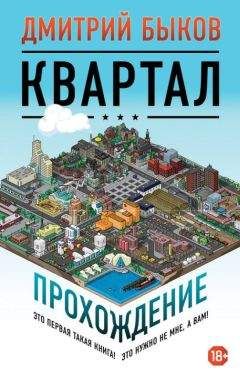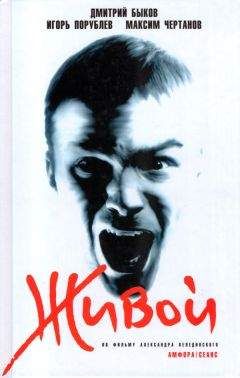Дмитрий Быков - ЖД (авторская редакция)
Она любила одеваться красиво и ненавидела одеваться по средствам; она предпочитала обходиться вовсе без денег, чем довольствоваться небольшими и вдобавок доставшимися с бою. Другие об этом разглагольствовали, не брезгуя повторением избитостей про «все или ничего»,— она так жила, как жила бы королева в изгнании, по древнему кодексу королев не имеющая право пить морковный кофе, если нет настоящего, и потому пьющая по утрам холодную воду — разумеется, из последней чашки, уцелевшей от фамильного сервиза. Он рассказывал ей эту историю и удостоился молчаливой улыбки. Маша вообще говорила мало. Может быть, тогдашний Громов, еще не закалившийся до последней стойкости, и поругивал ее за это презрение ко всем и всему — он толком не помнил сейчас, мысленно дивился этому или пару раз отчитал ее вслух; кажется, вслух. Да, на Воробьевых горах. Она не убежала тогда и даже не обиделась — вероятно, потому, что сердился он по-настоящему: да, это был настоящий гнев настоящего, никем не притворяющегося получеловека, каждодневно ходящего на работу и видящего в этой никому не нужной каторге особую заслугу. А ты не делаешь ничего, и еще кочевряжишься! Он тогда в первый раз купил ей брюки, без ее ведома, в порядке сюрприза,— она довольно резко отказалась их взять, сказав, что не одевается на рынках. Ну ты подумай! Ничего не делает и не одевается на рынках! Он принялся издеваться, а она с неожиданной серьезностью, без всякой обиды начала оправдываться: пойми, я не могу в этом… лучше совсем никак… Он быстро успокоился, поняв, что совсем никак — в ее случае действительно было лучше: на такую наготу надевать блошиные тряпки… Брюки эти он выбросил за парапет смотровой площадки — и тут же к пакету поспешил пьяненький бомж, штатный местный васька, подбиравший бутылки на склоне. Бутылок было много, но неформатные, шампанские,— в пунктах приема их брали неохотно; перед войной вообще стало очень много пунктов приема вторсырья — так умирающий обирается, собирается перед смертью, шарит по одеялу, по рубахе, словно подводя жалкий итог: вот я с чем остался. Этот мир уже обирался, шарил по сусекам, подбирал бутылки, тряпки, старые книги, которые около метро скупали на вес. Во что превращался потом весь этот утиль? Вероятно, в солдатское хабе, рвущееся при малейшем натяжении; ну конечно, они готовились к войне — и шили для солдат обмундирование, какого постыдился бы китайский крестьянин. Васьки в основном и жили сбором вторсырья, и сами были таким вторсырьем, которое перед самой войной тоже начали куда-то собирать — они вдруг исчезли из города: одни сбежали, других переловили. Громов и тогда, на Воробьевке, с ужасом сказал ей что-то про человеческое вторсырье, про то, как больше всего боится стать им.
— Нет,— решительно сказала она,— это как раз самый первый сорт.
— В смысле?
— Абсолютная чистота порядка. Только эти не врут.
— А я?
— Ты врешь иногда. Мы все врем. Не сердись,— прибавила она.— Знаешь, как в Индии с кастами обстояло на самом деле? Их было три. Жрецы, воины и все остальные. Все остальные заботятся о нуждах низкой жизни. Потом купцы и торговцы всяким рисом сбросились и внесли коррективы. И каст стало четыре: жрецы, воины, просто люди и неприкасаемые. Им было, вишь ты, западло в одной касте с нищими. В каком-то смысле это справедливо. Представление о жизни имеют жрецы, воины и нищие. Все остальные врут. Фальшиво звучит, но чесслово, так оно и есть.
Она и здесь больше всего заботилась о том, чтобы не звучать фальшиво.
Тогда он причислял себя к жрецам, потому что марал бумагу и пытался разобраться в происходящем; потом понял, что пора записываться в воины. Не то чтобы Громов разочаровался в своих жреческих данных: кое-что он понимал и умел, но время было не жреческое. В Помпеях не гадают по звездам: пелена опустилась, и звезд уже не было видно.
Перед войной настолько не было смысла ни в какой деятельности, что все, у кого был доступ к компьютерам, либо писали бесконечные и бессмысленные ЖД, либо раскладывали пасьянсы. Живой дневник был Громову не нужен — он вообще не понимал, к чему исповедоваться на публику,— а пасьянсов разложил великое множество. Все — и он со всеми — словно спрашивали ответа, что будет, но ответ каждый раз выходил разный. Перед войной в воздухе бродили и сталкивались почти видимые, скользкие, туманные сущности, из которых вот-вот должно было оформиться конкретное — но все никак не оформлялось; ясно было, что на глазах свершается поворот в сторону чего-то жалкого и грозного, кровавого, но страшно неумелого, такого же половинчатого и пошлого, как палач-недоучка. Ясно было, что на полноценный террор не хватит ни времени, ни сил, а тот, который получится, будет смешон и жертвам, и исполнителям — так и будут хохотать, глядя друг другу в глаза у пресловутой стенки; роли были расписаны, но актерам давно надоели, и притом эти актеры не знали никаких других. Надо было или ломать театр, или срочно тренировать в себе святую ярость. И для того, и для другого лучше всего годилась война. Не учли только того, что и война будет соответствующая — выродившаяся: ярость нарастала, театр разваливался, а гниль никуда не девалась. Громов знал, что должен доиграть эту пьесу, и доигрывал честно — с тем же чувством, с каким актер в проваливающемся спектакле раз за разом честно повторяет «кушать подано», отлично видя, что премьер пьян, трагик забыл текст, суфлер сбежал еще позавчера, а зрители постепенно, с нагловатой застенчивостью разворовывают бархатные портьеры и обдирают кресла. Роль была простая: встать, сесть, правое плечо вперед, в случае чего умереть по команде или в порядке проявления разумной инициативы.
Маша писала ему из Махачкалы скупо — прямым, мелким, плотным почерком; жизнь там, судя по всему, была несладкая. Она несколько раз ездила туда девочкой и неплохо уживалась со среднеазиатской родней, местное население относилось к русским с легким презрением, но впрямую пока не нападало, и даже работа была — какая-то канцелярщина, связанная с прижизненным увековечением местного князька. Население все равно знало русский лучше, чем родной, и требовалось редактировать русские тексты его бесконечных речей и километровых поэм. Мать уже не работала, трудно переносила жару, расклеилась, и Маше пришлось браться за эту поденщину, хотя если бы речь шла о ее личном выживании — она ни за какие лукумы и дыни не притронулась бы к редактуре поэмы «Сорок поучений кочевника домоседу» и умерла бы с голоду, улыбаясь. Громов с первого взгляда, с первого ее слова знал, что она найдет в себе силы улыбаться в последнюю минуту. Ненадежная в простейших обязанностях, в выполнении пустяшных и суетных поручений, она была непробиваемо надежна в главном, и сколь бы ни было трудно жить с ней — умирать лучше всего было в ее спокойном и дисциплинирующем присутствии. Ни в какую загробную жизнь Громов не верил с детства, и никакого утешения, кроме последней усмешки на память всему этому гнилому цирку с недокормленными тиграми представить себе не мог.
Постукивало, сопело, тикало. Он стал вспоминать Машу, вызывать ее в тысячный раз, понимая, что при встрече все будет другим, и сама она, наверное, другая (единственный раз прислала фотографию, которую он тут же порвал — фотография была компромиссом, а компромиссы они ненавидели). Она посмуглела, сильно похудела, снималась в ситцевом цветастом халате. Снимок был блеклый, словно выцветший от жары. Волосы — как всегда, коротко остриженные,— выгорели, стала заметней складка у рта, а выражение лица он хорошо знал: ну, посмотрим, что вы все еще придумаете. Пока не придумали ничего, о чем я не догадывалась бы заранее, к чему не готовилась бы с детства, с первого класса, повторяя про себя по ночам: я могу и без этого, и этого, и этого.
Он помнил ее на Тверском бульваре, в шерстяной красной кофте в белую полоску,— помнил, как среди долгого, бессмысленного, полупьяного спора — о судьбах и перспективах, разумеется,— она вдруг подошла к нему сама, резко потянула за руку и сказала «Пошли», и судьбы с перспективами перестали что-либо значить. Помнил ее напряженные ноги и спину, когда она стремительно задергивала занавески на окнах. Помнил ее исчезновения на рассвете, бесшумные, без прощальных поцелуев и тем более записок: иногда он просыпался, но не подавал виду. Помнил весь ее гардероб — очень хороший и очень небольшой. Когда она уходила, сразу становилось невозможно поверить, что она существует, и он еле мог дождаться вечера. Иногда она пропадала на неделю, однажды даже на месяц — и, появляясь, скупо и хмуро признавалась, что опять попробовала жить без него, без всех, но на этот раз еще не смогла; когда-нибудь сможет непременно. Этого он боялся больше всего, хотя и готовился подспудно именно к такому исходу: однажды вдруг выяснится, что ее просто не было. Она слишком была сделана по его мерке, чтобы такое совпадение могло быть правдой. Ему нравилось ее угрюмое немногословие, ее нелюдимость, избавлявшая его от мелочной ревности, до конца все равно не исчезавшей, но хоть не такой острой, как в первые дни; нравился низкий голос с переливом, хотя музыкальность его она всячески прятала и никогда не пела при нем — потому что серьезно занималась пением лет до пятнадцати и бросила, а все, что бросала,— бросала бесповоротно; нравилось, как она нехотя, не сразу, глухо сопротивляясь — забывалась рядом с ним, ослабляла защиту, начинала смеяться, а во сне, когда не могла запретить себе это, все-таки прижималась к нему. Он вспомнил все это опять и понял, что спать больше не будет. К утру, может, сон и вернется, но сейчас было только три. Громов натянул сапоги и отправился проверять посты.