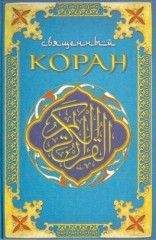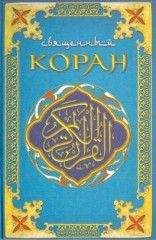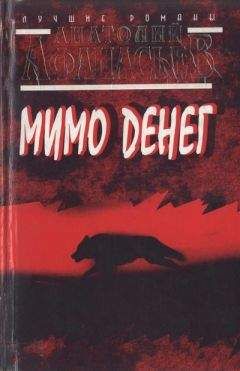Джонатан Коу - Какое надувательство!
Сегодня мне шестнадцать! Матер и Патер подарили мне эту потрясную тетрадь в кожаном переплете, в которой отныне я смогу записывать свои самые тайные мысли[15]. И разумеется, 200 фунтов на старый сберегательный счет, хотя до этих денег я не смогу добраться, к величайшему сожалению, еще пять лет.
А днем они закатили шикарное чаепитие. Были все — Бинко, Жирик, Тефтельи Мяхля, а также пара представительниц прекрасного пола, например изысканная Уэнди Карпентер — увы, со мной она почти не разговаривала[16]. Томас держался индифферентно и заносчиво — как обычно. Но самый большой сюрприз — откуда ни возьмись появился дядя Годфри. Очевидно, у него сейчас отпуск, который он проводит в Уиншоу-Тауэрс, и он специально приехал оттуда, чтобы взглянуть на вашего покорного! В полном обмундировании Королевских ВВС он выглядит потрясно. Пришел ко мне в спальню посмотреть на все модели „Спитфайров“, и мы углубились в достаточно серьезную беседу — про Эль-Аламейн[17] и про то, как он подстегнул необходимый боевой дух всех солдат. Он рассказывал, как парни с нетерпением ждут, что после войны все станет гораздо лучше, а потом впал в лирический восторг по поводу какого-то Доклада Бивераджа (?), в котором, судя по всему, говорится про то, как отныне у всех повысится уровень жизни, даже у рабочего класса и тому подобных людей[18]. Уходя, сунул мне в карман пятерку и не сказал ни слова. В самом деле — пристойнее дядьки трудно себе и пожелать.
15 декабря 1942 г.
Пока — худший день в моей жизни, это совершенно точно. Жуткие сцены в Уиншоу-Тауэрс, когда мы туда приехали, чтобы отдать последние почести бедному дяде Годфри. Никто в самом деле не может поверить, что его больше нет: ведь меньше месяца назад он еще приезжал на мой день рождения[19]. Мемориальная служба сама по себе гадость, что уж говорить о Бабке с Дедом, которые выглядели хуже некуда, в часовне собачий холод, снаружи воет ветер и так далее. Но переночевали до этого мы в самом доме, и там приключился кошмарнейший конфуз. Бедная тетушка Тэбс от этого известия окончательно рехнулась и кинулась обвинять дядю Лоренса в том, что это он укокошил собственного братца! Буквально накинулась на него в вестибюле, когда он спускался на ужин: пыталась размозжить ему голову крокетным молотком. Судя по разговорам, происходило это уже в шестой раз. Меня пытались уберечь от этого зрелища, но когда мы все сидели за столом, приехали врачи и бедную тетушку с воплями выволокли через парадное. Потом я услышал, как отъезжает фургон, и больше мы ее не видели. Матер говорит, что ее увезли в такое место, „где за нею будут хорошенько присматривать“. Надеюсь, она быстро поправится.
При этом я прекрасно понимаю, каково ей. От службы у меня самого ком в старом горле стоял, и весь остаток дня я пребывал в довольно мрачном настроении — в голове роились глубокие мысли о тщетности войны и прочей катавасии. Пока Патер вез нас домой, я начал в голове сочинять такой вроде как стишок:
Памяти дяди Годфри
Рыдай же, суровое племя Солдат,—
Один из вас не вернулся назад.
Воет ли ветер на стылом погосте,
Льют ли дожди, истлевают ли кости —
Природа скорбит по сыну и брату,
Убитому грязным фашистским гадом.
Нельзя нам сдаваться, мы жизнь отдадим —
О, горький триумф, если мы победим!
Будем именем дяди всегда дорожить,
Хоть сам он в земле Йоркшира лежит,
Венка в честь победы ему не совьют,
И сквозь его тело ромашки растут[20].
Когда Патер зашел пожелать мне спокойной ночи, я сказал ему, что и помыслить не могу о том, чтобы отправиться на войну, — от одной только мысли мне становится жутко. Даже не знаю, что буду делать, когда мне придет повестка. Но он посоветовал об этом не волноваться и произнес что-то загадочное о каких-то сложных взаимосвязях шестеренок. Не совсем понял, что он имел в виду, но уснул я странно успокоенным.
12 ноября 1946 г.
После решительно неприятной консультации с проф. Гудманом, моим новым — хотя, если говорить правду, довольно ветхим — преподавателем теории вероятности отправился прогуляться по садам Магдалины. Сегодня вечером осенний Оксфорд выглядит изумительно. Начинаю здесь чувствовать себя как дома. После прогулки наконец решил посетить собрание Консервативной ассоциации. Патер будет очень доволен. (Нужно будет ему об этом написать.)
А теперь, дорогой Дневничок, я доверю тебе кое-какую совершенно секретную информацию, ибо суть дела такова: МНЕ КАЖЕТСЯ, Я ВЛЮБЛЕН. Да! Впервые в жизни! Президент Ассоциации — девушка из Сомервилля по имени Маргарет Робертс, и я должен сказать, что она абсолютно прелестна![21] Совершенно роскошная копна каштановых волос — мне так хотелось в нее зарыться целиком. По большей части я просто не мог отвести от нее глаз, но после набрался храбрости, подошел и сказал, как мне понравилось собрание. Она поблагодарила и выразила надежду, что я приду еще. Только попробуйте меня остановить!
Она произнесла совершенно блистательную речь. Все, что она говорила, — правда. Все так и есть. Я никогда не слышал, чтобы так ясно излагали.
Сердце мое и разум — твои, Маргарет; делай с ними, что пожелаешь.
11 февраля 1948 г.
Сегодня был дядя Лоренс. Это хорошая новость, поскольку семестр у нас еще не закончился, а моя наличность на исходе; на старика же всегда можно положиться — обязательно перед отъездом что-нибудь подкинет. Когда он приехал, у меня в комнате был Гиллам, примерно в половине первого, и мы все вместе отправились на лат. Я думал, будет настоящий фейерверк, потому что рано или поздно они с дядей обязательно дойдут до политики; все тем не менее прошло крайне добродушно. Гиллам до мозга костей лейборист — мы стараемся не касаться этой темы по большей части, но я лично думаю, что несет он преимущественно ахинею. Как бы то ни было, дядя вскоре унюхал в нем заскорузлого бивениста[22] и начал поддразнивать его за то и это. Спросил, что он думает о Национальной службе здравоохранения, и Гиллам, разумеется, впал в экстаз. А дядя на это сказал: в таком случае почему, как вы считаете, все врачи выступают против нее? — поскольку лишь вчера Британская медицинская ассоциация (еще раз) проголосовала против сотрудничества со всей этой белибердой. Гиллам что-то промямлил насчет того, что силам реакции нужно сопротивляться, а дядя тут же выдернул у него из-под ног ковер, сказав, что он, как бизнесмен, считает, что замысел централизованной Службы здравоохранения весьма и весьма здрав сам по себе, поскольку в конечном итоге медициной можно управлять как бизнесом — с акционерами, советом директоров и генеральным управляющим. И это — единственный способ сделать ее эффективной: пусть катится по рельсам бизнеса, т. е. с целью получения прибыли. Все это для Гиллама, конечно, звучало полной анафемой. Но дядя уже разошелся и начал говорить, что в действительности Служба здравоохранения — если ею должным образом управлять — может оказаться самым прибыльным бизнесом всех времен, поскольку медицина — как проституция: спрос на нее никогда не упадет, она неисчерпаема. Он сказал, что если кому-то удастся добиться того, чтобы его назначили управляющим приватизированной Службы здравоохранения, он вскоре станет одним из богатейших и влиятельнейших людей в стране. Гиллам кинулся доказывать, что этого никогда не произойдет, поскольку сам товар — человеческая жизнь — не может быть исчислен количественно. На качество жизни, сказал он, нельзя повесить ценник. И добавил: как бы Уиншоу с этим ни спорили. Этим он довольно лестно намекал на краткое сообщение под названием „Качество количественно“, которое я делал на заседании Пифагорейского общества. В сообщении я доказывал (довольно фривольно, надо заметить), что не существует таких условий — духовных, метафизических, психологических или эмоциональных, — которые нельзя выразить математически. (Доклад этот, кажется, наделал шуму: Гиллам мимоходом сообщил дяде, что его название неизменно всплывает в разговорах, когда упоминается мое имя.)
После ланча мы с дядей сели у меня в комнате пить чай. Я поздравил его с успешным розыгрышем Гиллама, но дядя ответил, что все это абсолютно всерьез, и мне следует хорошенько запомнить все, что он говорил о Службе здравоохранения. Потом спросил меня, что я собираюсь делать после окончания Оксфорда, и я ответил, что пока не решил: пойду либо в промышленность, либо в политику. Когда я упомянул политику, он спросил, на чьей стороне, и я сказал, что не знаю, а он ответил, что пока разницы нет — обе стороны слишком занесло влево, это их реакция на Гитлера. Затем сказал, что есть несколько компаний, в которых он мог бы найти для меня местечко, если я хочу: нет никакого смысла начинать с самого дна, я с таким же успехом могу сразу войти в совет директоров. Я его за это поблагодарил и сказал, что буду держать это в уме. До этого момента дядя Лоренс был мне более или менее безразличен, но, похоже, человек он приличный и достойный. Перед уходом дал мне восемьдесят фунтов десятифунтовыми билетами, и это позволит мне дотянуть до конца семестра довольно славно[23].