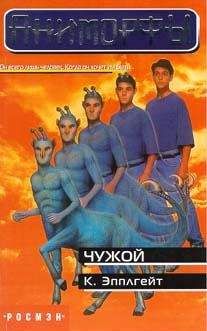Светлана Метелева - Чернокнижник (СИ)
Из внутреннего кармана пальто вынул деньги: две мятых десятки баков. Вложил в мясистую, потную ладонь. Баба смягчилась, пожала плечами:
— Ладно, увезем. Только чтобы завтра забрали — а то взяли моду: сгрузят труп, и валяется в морге. Можно подумать, что мест навалом… Петь, бери его.
Санитар послушно взвалил тело на плечи, понес. А я сел в кресло — старое, потертое, где полчаса назад сидел он — опер со слабым сердцем. Про себя отметил: шел воровать, а вместо этого — сел охранять… Но было муторно. Вроде не первый человек на моих глазах умер, а все равно не по себе. Достал сигарету: плевать на правила — здесь покурю. Затянулся — и вдруг услышал:
— Ну че, Борь, легче?
Поднял глаза. Передо мной стоял Васек. В руке — стакан с водой. Смотрел озабоченно.
— А ты здесь откуда? — спросил я.
— Борь, ты че? Я вообще-то дежурю сегодня.
— А тот, другой, как же?
— Ты че, гонишь, Борь? Какой другой? — удивился Васек.
— Который здесь был. Тоже в форме. Который умер — его «скорая» увезла…
— Боря, — Васек поставил стакан на стол, — ты бы это… Завязывал, что ли… Не было здесь никого. Только я. Ты пришел, по коридору бродил туда-сюда, потом я тебя поймал — вот в туалет сходил, воды тебе принес. Выпей, может, полегчает…
Я послушно взял стакан, выпил. Вода отдавала хлоркой и сортиром. Поднялся на негнущихся ногах.
— Мы же договорились, — сказал Васек. — Если кто вместо меня, я тебе скидываю сразу. Ты че, думал — я забыл? Борь! Ты куда, Борь?
Я махнул рукой и направился к хранилищу. Все, пора завязывать. Позади лес, впереди море. Смешно. Ей-Богу, смешно. Чего угодно ждал. А тут. Обычный глюк. Самый обычный. Отвык я уже, что ли? Думал, боялся новых провалов — туда, в черную воду Темзы, на острое копье Белого Тауэра, вглубь монастырского молчания. А всего делов… Охранник. Мертвый. Ерунда.
Дверь в хранилище я открыл машинально, нашел нужный сейф не сразу; он был скрыт стеллажами. Но я нашел. Я знал, где искать — Соловьев объяснил подробно: где именно, в какой стороне, под какими шкафами теоретически может быть сейф. И я нашел. Достал ключ… Но железный гробик дернулся дверцей мне навстречу, подался вперед…
…Пусто! Черт возьми, пусто! Ничего! В нужной ячейке — пыль. Мыльный пузырь — вместо последнего трофея! Лувен, 1516 год, первое издание «Утопии», ответ на мой главный вопрос — где все это? Где лебединая песня Чернокнижника, примерной стоимостью не меньше полумиллиона долларов? Жадные пальцы все пытались нашарить хоть что-то, но мерзкий ящик скалился пустотой. Книга исчезла.
Глава 10. Мольба
Май 1995 года.
Ночь. Ничего больше. Тьма. Над библиотекой, институтом, улицей Вильгельма Пика, над всей Москвой висела она. Безнадежно накрывала; как в саван, заворачивала, оглушала, ослепляла. Снаружи и внутри — чернота.
Сначала я просто шел — не разбирая куда, не думая, не глядя. Спускаться в метро смысла не было — закрылось; машину не поймаю — нет их, да и не хочу. Где-то там, прямо, потом правее, должна быть кольцевая; пойду по ней.
Не помню, сколько и как я шел; вроде изредка проезжали мимо машины; пару раз кто-то останавливался, предлагал подвезти — я отмахивался, отрицательно мотал головой; точно онемел, языка не было. До кольца все же дошел — только здесь горели фонари. Опять лил дождь — неровные желтые блики пьяно качались на мокром асфальте. Кольцо гудело, сигналило, ревело — машины пролетали мимо — я шел по обочине.
Кольцо вокруг города — опоясывало, стискивало; выхода наружу не было — только внутрь. Уроборос — змей, пожирающий свой хвост; символ вечности у египтян и, кажется, ацтеков.
Нет ни начала, ни конца, ни середины. Нет, не так: любая точка может быть выбрана как начало — или конец; и смерть может быть не концом и не началом даже, а — вполне вероятно — серединой… Это значит — я постиг суть вечности, понял то, что твердил многомудрый Комментатор: вечность — это великий произвол, пучок вероятностей — потому что ведь и идти-то можно в любую сторону… И поедать при этом свой собственный хвост…
И я смеялся.
Каждый из нас жрет самого себя: кого-то заедает совесть, кого-то гордость — чаще, бывает, жрут других, наслаждаясь болью и мерзостью; иногда жмурясь и хихикая; а есть и такие, как я — всю жизнь кусают самих себя за задницу, подгоняют, торопят… Вот и весь символ — дурацкий, если уж прямо говорить; банальный даже — так, ни о чем…
Ветер раздувал полы пальто — застегнуться? Нет, не стану. Шел дальше. Слышал, как тормозят машины — злобно радовался, представлял, как внезапно выныривает из тьмы моя спина — и водила думает, что у него «белка», что ему все это кажется и быть такого не может, но все же тормозит, давит изо всех сил на педаль. А метров через двадцать ему станет не по себе — вздрогнет: что это было? И будет рассказывать своей тупой телке или друзьям-гидроцефалам про «призрак МКАДа»…
Дождь все шел — мелкий, выматывающий; капли катились по лицу, сползали за шиворот; я шагал по обочине — вперед.
Книги не было. Я не узнал ответ. И теперь уже — не узнаю. Не пойму. Шанс уцелеть между пыточными колесами времени вырвали из рук, увели из-под носа. Тьма металась — в голове, в сердце, пробирала до костей; я ли это шел — или другой? Здесь — или где-то? Сейчас — или вчера, а может — завтра? Да и шел ли? Может — стоял на одном месте? А может, уже и не стоял даже, а валялся, сбитый грузовиком, на асфальте?
И я думал. Если я существую в двух Вселенных одновременно, если сливаются вчера и завтра, значит — можно умирать? Ведь я умираю только здесь — а там остаюсь. А это значит — никакой раздвоенности; никаких видений. После смерти я буду целый — там. Но где? И я ли это буду? Я вглядывался в тьму — и видел там Другого; он шел рядом со мной, размахивал руками, что-то говорил; в таком же пальто, как у меня, и в дурацком черном берете; он бросался почти под колеса. Он был похож на меня, но — не я, не я! Черное пламя бушевало в мозгу; казалось, что ничего больше нет — нигде; только кольцо, шум моторов, дождь и — тьма. Я затыкал уши — не хотел слушать мысли; закрывал глаза — не хотел видеть; я стирал слова в своей голове; я пробивал в ней дыру — чтобы сквозь нее уходили слова.
И я пел. Первый концерт Шнитке. То место, которое одно и можно петь — а кроме него, там только собачий вой, скрип дверей, гниль ржавого железа. Та-да-да-да… Та-да-да-да… Живая середина — небольшой кусок, маленький совсем — это и есть — безумие. Намеком, отголоском, почти неслышно сначала, вползает Идея внутрь мозжечка; дает ростки. Глухо, пасмурно, упорно — цепляется корнями за мозговые извилины, обвивает их, срастается с ними. Ты и не догадываешься пока — а она уже угнездилась, уже засела. И вдруг — внезапно — дала о себе знать фальшивой нотой; чересчур громким смехом — или, наоборот, непонятными слезами, истерикой. И ты пытаешься ее остановить, поймать, задержать — и не можешь, никак не можешь; и не сможешь уже; потому что скользким желе растечется у тебя между пальцев; тревожной веной дрогнет на сгибе — и все больше делается фальшивых нот; все чаще прорываются они — яростью, болью; трескается привычная маска, из-под нее проглядывает дьявол. Сумасшедших считали одержимыми — зря! Это не бес, нет, не бес — это Другой; это Другому мало места — там, во вчера или завтра; это он лезет, заполняет собой мозг, съедает душу… И это понимание мелькнет удивительной, разрушающей красотой; у кого-то даже вызовет к жизни пару шедевров — стишки, картинки; а дальше — дальше окончательно снесет крышу — и громко, самоуверенно и нелепо грянет безумное танго.
Я шел. Надо было идти — к себе, к толстой общей тетради. Купил специально, чтобы составить список краденых книг; а сейчас казалось, что ничего нет важнее девяноста шести страниц в клетку под картонной обложкой; казалось, предчувствовал, знал — понадобится, спасет. Я не нашел «Утопии» — что ж, придется ее написать. И я шел — записывать. Шел убивать свой бред. За этим они и пишут — все, кто был, кто будет — не поймать мгновение, не пришпилить канцелярской кнопкой настоящее — нет — для того только, чтобы истребить Другого, хоть на время заглушить голоса в голове, уничтожить мешанину слов. Я ловил их — имена, междометия, глаголы — в воздухе ловил, в запахе бензина, в автомобильных гудках; из тьмы вытаскивал и утрамбовывал в память, организовывал. О чем? О Видении? О Другом? Или — просто: мол, нашел книжки — с самого начала… А где, в какой момент оно началось — начало? С какой точки стало возможным — а потом неизбежным?..
Тонкая светлая полоса проглянула на Востоке. Солнце всходило в аду. Я свернул на Щелковское шоссе. Мимо новостроек, до Измайловского парка — а там выйду к трамваю. Дождь перестал…
* * *…Думал — сразу, как войду, сяду писать. Не вышло — пришлось выгулять пса: он скулил и жаловался, как будто это он, а не я прошагал под дождем километров двадцать. Вернувшись, переоделся, глотнул воды, долго искал ручку — не было; нашел карандаш, сел. Сорок минут сидел в диком ступоре: с чего начать — так и не решил, и не понимал даже.