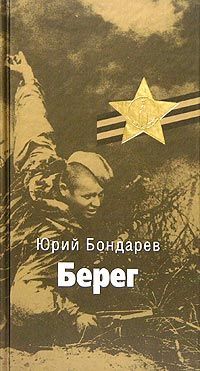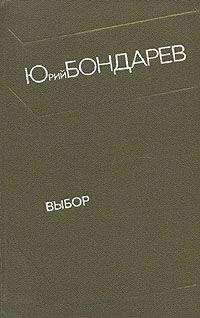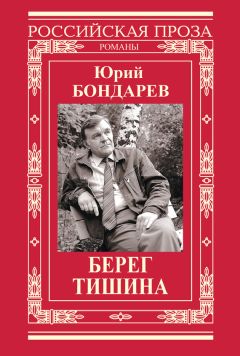Юрий Бондарев - Игра
Гричмар, косолапо загребая по асфальту ногами, тяжело сопя, подошел к парапету, упал локтями на гранит, затем потащил из кармана пиджака сигареты, пробормотал сипло:
— А вот ты знаешь русских… русский народ?
— Немного. Потому что воевал. Но это были сороковые годы. Никто не знает до конца свой народ. Не знали ни Сократ, ни Толстой, как нельзя знать Вселенную. Только вот наивность русским не свойственна. Доверчивость — да. Но не наивность. Я говорю тебе, Джон, и о сценарии, который ты мне рассказал. Я не смогу снять такой фильм.
— Почему, скажи?
— Ты выбрал не того режиссера. Хочешь, чтобы я снял фильм об апокалипсисе? Я не смогу.
Гричмар пожевывал сигарету, взгляд его мрачно и жадно скользил по размытым силуэтам лежащей внизу в предзакатной дымке Москвы, по шпилям дальних высотных зданий, несущих нечто запоздалое, готическое, по серой булаве Останкинской башни за горизонтом крыш, по желтым и бледным пятнам небоскребов, однообразных прямоугольников, издали жестко блещущих против солнца стеклами, по золотым маковкам Новодевичьего монастыря с игрушечными башенками по ту сторону пологого изгиба Москвы-реки, уже прохладно потемневшей перед приближающимся вечером, где вблизи кольца стадиона белым жучком, распуская по воде усы, полз к железной арке моста речной трамвай. От скопища крыш, от доносившегося дрожащего гудения метромоста, пропускающего поезда, мутного туманца, поднявшегося над перегретым за день асфальтом, от сгущенности выхлопных газов почудилось Крымову: снизу от этого огромного и живого тела наплывало теплым маслянистым запахом машинного пота, усталостью и теснотой перенаселенного многомиллионного города, который он любил с детства, а в последние годы почти не узнавал.
— Мой отец говорил — сорок сороков, — пробормотал Гричмар и сумрачно подвигал кустистыми бровями. — Где сорок сороков? Небоскребы… Двадцатиэтажные зажигалки. Как в Филадельфии. Зачем разрушили русские храмы? Нельзя смеяться, где есть тайна… Не делай так, Вячеслав, — с неудовольствием заговорил он, не без труда подбирая слова и прихлопывая кулаком по граниту. — Надо тебе делать фильм. На весь мир сказать глупым самоубийцам, самонадеянным ослам. Сюжет — гибель планеты. Жалкие люди устроили ядерную войну. Вся земля горит. Огонь, везде огонь, потом вся земля — обугленный камень. Осталась живой одна черепаха. Одна, бедная… одна, одна ползет к берегу океана. Видит гигантское красное солнце… впереди, в дыму. Солнце — как разбухший клоп. А она ползет. Подползает к океану, а он… высох, пустой. Мертвый… Так по-русски? Гигантская яма, кости рыб. Черепаха смотрит, смотрит на мертвый океан, на солнце. И умирает на краю ямы. Глаз застывает, и солнце гаснет.
— Невесело, — сказал задумчиво Крымов, ясно вообразив этот конец фильма: траурно угольный берег выпаренного ядерным огнем океана, уже подернутый пленкой стеклянный глаз неподвижной черепахи с постепенно тускнеющей красной точкой солнца в нем. — Страшновато, страшновато. Какая безысходность во всем этом!
— Фильм должен иметь такое название: «Последняя черепаха». — Гричмар закряхтел, обтер носовым платком насупленные брови, влажные глаза, затем страдальчески дернувшиеся щеки, трубно высморкался. — Это апокалипсис… Страшный суд без Иисуса. Фильм должен быть… как крик перед смертью. Наказание лжи, пороков… легкомысленного человечества. Твой фильм «Необъявленная война» был очень беспокойный. Это страшная проблема — экология. «Черепаха» — это должен быть ужас ада. У всех должно быть перевернуто сердце… Шок… Смерть, гибель цивилизации, бедной Земли… и всей грязной дерьмовой политики…
Гричмар с выдохами, прерывающимся голосом выговаривал нелегко найденные слова и все продолжал неторопливо вытирать лицо платком, словно придавая разговору этим жестом неколебимую будничность. Но Крымов видел его возбуждение, влагу на припухлых веках — и явственно вспомнил его новый фильм, показанный на Парижском фестивале. Картина потрясла Крымова трагической безысходностью судьбы человеческой личности в современном мироустройстве, до предела осознанной героем фильма, после автомобильной катастрофы попавшим по ошибке в сумасшедший дом, где в комфортабельных палатах и операционных правят власть имущие, лживо ласковые хирурги, делая из больных людей смертельно больных, из незаурядных талантов — безвольных ничтожеств, из ничтожеств — властителей. Фильм кончался тем, что героя положили на операционный стол под шепот безумного хирурга, жреца лжи: «Кто простит, кто спасет, кто излечит цивилизацию? Мы…»
— Благодарю за предложение, Джон, — сказал Крымов, содрогаясь от нарисованных Гричмаром пепелищ разрушенного мира. — Ты затеял жуткий фильм. Без надежды. Я все-таки люблю Землю, поэтому не смогу быть архангелом с огненным мечом.
— Страшно, Вячеслав… страшно. Зло остается… безнаказанным… — глухо и сожалеюще проговорил Гричмар и в поисках нужных слов сморщил лоб. — А ты очень уверен, что можно достигнуть… нет, достичь… Так?.. Да? Достичь идеала человеческого братства? Нет?
— Не уверен, — ответил Крымов. — Но я уверен вот в чем: сейчас нужен герой, который задавал бы людям вечные вопросы по каждому поводу. Многие его сначала будут принимать за идиота, но это не беда. Дон Кихот бессмертен. Развелось слишком много тупых, хитрых, самонадеянных разрушителей, чиновных людишек — от управдома до министра, которые исповедуют один принцип: живи сладко сегодня, а после нас хоть потоп. Леса беспощадно вырубают, реки превращают в сточные канавы, небо — в мусорную свалку. Убийцы Земли и всего сущего. Заметил ли ты, Джон, что у всех обывателей — у ваших и у наших — одинаковое выражение в глазах? Равнодушие ко всему на свете, кроме удобства для своего зада. Ради этого он продаст и предаст не только родную землю и свою нацию, но и весь мир.
— Дон Кихот… Ты да… Ты мечтаешь, что можно… изменить человеческую природу.
— Огорчу тебя, я не Дон Кихот. Я знаю вопросы, которые мучают меня. Но не знаю точных ответов, Джон. Понимаешь? Вот от этого тоска.
— Что есть тоска?
— Тоска? Это боль, которая не имеет определенного места. Понимаешь?
— Я знаю… Это очень плохо.
С полчаса они постояли на смотровой площадке немного поодаль от туристов, то и дело прибывавших и отбывавших на пропахших асфальтовой пылью автобусах, потом спустились по гранитной лестнице к Троицкой церкви, пошли в сторону новых липовых аллей. И тут, неподалеку от церкви, за оградой старого, закрытого погоста, Крымов не без удивления увидел среди заросших травой памятников бородатого мужчину в рубахе навыпуск, босого, который шагал по тропке, изрезанной солнечными просеками, пьяно пошатываясь в затяжной зевоте, а следом за ним, тоже судорожно зевая, с подушкой под мышкой, рыхло переваливалась толстоногая женщина в ситцевом платке и мелко, торопливо крестила рот. Они шли к дому в конце этого давно не действующего кладбища, вероятно (как подумалось Крымову), церковный сторож с женой, отдыхавшие где-то здесь в тени под деревьями. И сразу ощутив холодок подушки и пресное тепло травы, Крымов невольно позавидовал чужому безобидному удовольствию, сказал:
— Ты знаешь, Джон, что за наслаждение поваляться и поспать в траве? Не испытывал ни разу?
— Русь, да? Это Русь… — проговорил Гричмар и приостановился у ограды, впиваясь острыми вишневыми глазками в бородатого, изнывающего в судорогах зевоты мужчину. — Мой отец мне рассказывал… Он имел очень немаленькое имение… на Урале, — заговорил он замедленно. — Под городом Екатеринбург, у вас Свердловск, да? Там было имение. Гигантский сад. Он… мой отец и дед… любили там спать на сене. Он говорил, что на Руси спали под глазами Бога. Он говорил… когда ночная звезда заглядывает в окно… в дом, то моя душа становится богаче. — Гричмар пальцем постучал себя в грудь. — Он идеально… много… знал Россию…
— Прости, Джон, — сказал Крымов с несдержанной решительностью, — Русь и Россию идеально не знал и не знает никто. Даже Лев Толстой. Руси уже нет. А Россия — самая неожиданная страна. И такой второй нет в природе. Если уж кто спасет заблудшую цивилизацию, так это опять же Россия. Как во вторую мировую войну. Как? Не знаю. И через сколько лет — не знаю. И какими жертвами — не знаю. Но, может быть, в ней запрограммирована совесть всего мира. Может быть… Америке этого не дано. Там разврат духа уже произошел. И заключено полное соглашение с дьяволом…
Он замолчал, затем раздосадованно сказал: «А!» — и взял Гричмара под руку, приглашая этим «а!» просто молча пройтись по аллее, подышать воздухом.
Но Гричмар в замешательстве стоял у ограды погоста, глядя на просвечивающие сквозь листву зеленые купола близкой церкви, где в пролете колокольни порхали воробьи и по железному карнизу, постукивая когтями, ходили голуби.