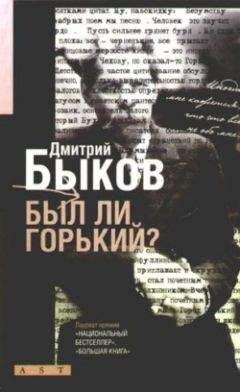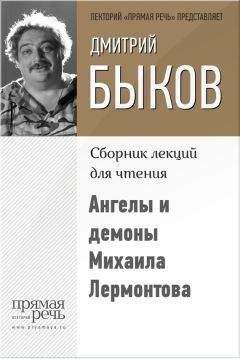Дмитрий Быков - Оправдание
Город был в цвету, но люди казались пыльными, несколько пришибленными. В его время все были ярче. Сперва он списал это на войну, потом понял, что не меньше половины страны уже прошло проверку, а она не добавляет жизнерадостности.
Было много новых домов, сплошь серых, похожих на вертикально поставленные длинные бараки, и немало начатого строительства. Заславский не понимал, зачем столько строить, если все равно в результате проверки останется не больше четверти народу. Остальные если и будут где-то жить, то уж явно не в столице. Сколько времени может занять эксперимент? Примерно пятая часть населения осталась на войне, еще столько же профильтровали до нее — стало быть, все кончится лет за двадцать.
Но кому тогда строят эти дома? Неужели их всех действительно вернут — тех, кто выдержал, и тех, кто сломался, тех, кого по году уродовали и потом по десять лет учили убийству, и тех, кто ублажал блатных? Ведь и у них кончатся сроки, а у кого-то, может, уже и кончились, — и теперь они ходят в той же толпе, что и он? Хмурые люди, умеющие молчать; люди, приученные к терпению. Проверка имела целью поделить население на первых, не готовых подписать ничего, и вторых, готовых подписать все. От кого больше толку — вот единственный вопрос: первые годятся для войны, вторые — для мира. Но как они будут сосуществовать?
Эту мысль он отогнал тут же. Конечно, никто не вернется. Жителей Чистого отпустили только потому, что они уже не представляют опасности, а какое-никакое величие души Верховному все же присуще. Благодарность, если угодно. Они ничего не попытаются изменить, большинство не заведет семей — вот почему пытки задумывались не столько мучительными, сколько унизительными: измученный оклемается, растоптанный не восстанет. Двадцать убийств, тридцать карательных операций, в которых ты, железный диверсант, победоносно поучаствуешь, не окупят тебе тридцати секунд, когда ты раззявленным распоркой ртом глотал следовательскую мочу. После этого можно отпускать безбоязненно — хоть в Чистое, хоть обратно домой. Иное дело — работяги, оговорившие себя и теперь медленно доходящие на Севере: рабы не перестанут быть нужны, а отпускать их незачем и не за что. Публика второго сорта Верховному была неинтересна. Но тогда получалось, что дома строят просто так — без надежды их заселить? Заславский даже усмехнулся тому, что эта простейшая мысль не пришла ему в голову. Их строят, чтобы строить, как и их мучили, чтобы мучить, а вовсе не для того, чтобы они в чем-то признались. Результат перестал быть важен давно — главенствовал процесс.
Правда, по хмурым лицам, на которых давно не было никакого энтузиазма, а только усталость и тоска, Заславский легко мог догадаться, что — вечен или нет Верховный — затеянное им точно не вечно. Человеческая порода, не прошедшая закалки в Чистом, была все той же бедной человеческой породой; если они, нежизнеспособный и бесполезный теперь призыв тридцать восьмого года, знали все-таки и настоящие страсти, и настоящую боль — в том террариуме, в который превратилась Москва, чувств не испытывали вообще, а жили подделками. Верховная проверка еще могла бы сделать людей из этого населения, но и то вряд ли. И потому рано или поздно они должны были выйти из-под гипноза этой жизни — не взбунтоваться, а просто вяло выползти, перестать сначала ходить на работу, а потом и просто обслуживать себя, — и это станет не триумфом свободы, а выражением бесконечной скуки и усталости. Это будет победа гнили, потому что железо побеждается только ржавчиной, все прочее против него бессильно.
Так-то вот, пока Заславский ходил по парку, в нем поднималось сначала раздражение, а потом живое, горячее бешенство, причины которого он сам сначала не понимал, но, сидя на скамейке среди пыльных кустов давно отцветшей сирени, вдруг понял. Он любил Иру, любил сильно. Воспоминание давно выцвело, но живая Ира была тут как тут. А вместе с ней, с ее живой прелестью, воскресла и ненависть к Марику, в которой он себе не признавался, и жажда жизни, на которую он уже не надеялся.
Злоба умирает последней, он знал это: она жива, когда все чувства давно отмерли. И потому воскресение его начиналось с возвращения живой злобы, которую давно вытеснила спокойная, привычная тоска. Злоба клокотала в горле, он не знал, что с ней делать. Сломал ветку, снова сел на лавку. Надо было успокоиться. Ведь что тут случилось на самом-то деле? Пока из него делали элиту страны, последнюю ее надежду, — женщина, предназначенная ему самой судьбой, попала в руки к другому. Это не входило в расчеты, этого не учли. В конце концов, никто не виноват, что его взяли первым. То, что Марика это не минует, — несомненно. Но тогда, значит, это грозит и ей, и тогда он потеряет ее снова. Это уже никуда не годилось, он встал и быстро пошел к выходу. Надо было немедленно что-то делать, куда-то идти, тратить силы, разгонять кровь, жарко приливавшую к голове.
Стоп, стоп. Всех ли проверяют? А дети? Но он знал, что как раз с тридцать восьмого, в котором проверка приняла небывалые масштабы, снят был возрастной ценз и для детей: их брали с двенадцати, кое-где и с десяти… Собственно, на фронте до него доходили слухи о детском лагере, народу там было много — в конце концов, как было в той балладе? «Мальчику жизни не жалко, гибель ему нипочем, мне продавать свою совесть совестно будет при нем». (Проверить, когда это переведено, сказал себе Рогов.) Из этих детей получались потом превосходные диверсанты, так называемые сыны полков, о происхождении которых впоследствии не сумели придумать ни одной внятной легенды. Дети, взятые в тридцать восьмом, бывшие тремя годами младше его, в сорок первом творили чудеса: восемнадцатилетний Матросов, арестованный как раз тогда, сделался легендой, хотя о том, что его сажали, нигде не упоминалось; естественная вещь. Да, если берут детей, у нее подавно нет ни малейшего шанса: всех, так уж всех. Разве что…
Он, привыкший за десять лет считать проверку единственным спасением для страны во враждебном окружении, он, со сладострастием мечтавший в первые свои дни в Чистом, как никто из бывших одноклассников и отвратительных дворовых мальчишек ее не минует, — сам не замечал теперь, что в уме яростно защищает Иру от общей судьбы.
Заславский не знал еще (у него не было времени это узнать), что принадлежал к счастливому и немногочисленному отряду людей, которых в старину называли положительными: любовь рисовалась ему как царство взаимного доверия и уюта. Оттого и мысли, приходящие ему по поводу Иры, были самого мирного свойства: Крым, укладывать и будить, дети… Обычные мысли семейного, чадолюбивого и женолюбивого существа — нашего брата жида, прав был чертов майор. У Заславского никогда не было времени задуматься о собственной необоримой природе, и страшный, глухой инстинкт защиты своего рода только теперь заговорил в нем. Не троцкистку же Клару было беречь для будущей жизни.