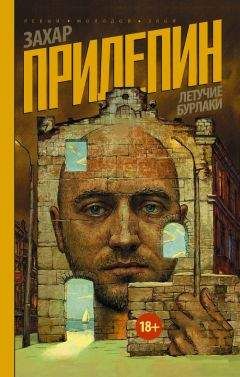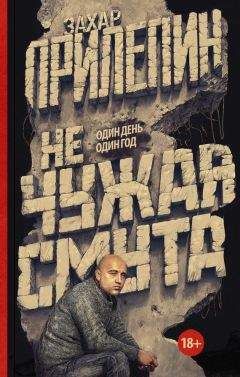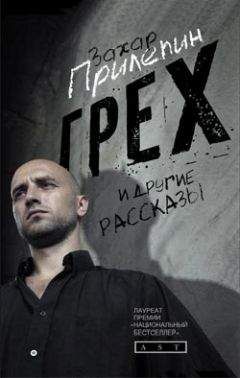Захар Прилепин - Дорога в декабре
Лезу пальцами в рот, хватаю торчащую из глотки, не проглоченную до конца мясную жилистую мякоть, тащу. Спустя мгновенье держу в руке изжеванное мясо, длинный, изукрашенный голыми жилами ломоть. Отбрасываю его в пыль. На глазах — слезы.
Так дышать хорошо, Боже ты мой. Очень приятно дышать. Какой славный воздух… Как славно чадит бэтээр, как чудесно пахнут выхлопные газы машин…
Забравшись на броню, пою про себя вчерашнюю кабацкую ересь, под которую заснул…
На подъезде к горам настигаем автобус с детьми. Он еле едет, качаясь с боку на бок. Чеченята смотрят в заднее стекло и, кажется, кривляются.
— Семеныч, давай за автобусом держаться? — предлагает кто-то. — Не будут же чичи стрелять в колонну, когда тут их чада поблизости.
Семеныч молчит, жадно глядя на автобус, но по рации с первым бэтээром не связывается.
«Надо в заложники их взять! — думаю я. — Что же Семеныч медлит…»
Не отрываю глаз от автобуса, едва тянущегося впереди первого бэтээра. Пацаны тоже смотрят туда же. Горы уже близко, зачем же их не срыли до сих пор…
Уже началась песчаная, выложенная по краям щебнем дорога. В этом щебне легко прятать мины. Мы будем спрыгивать с горящих машин, кувыркаясь, лететь на обочину, и там из-под наших ног, упрятанных в берцы, будут рваться клочья огня. А сверху нас будут бить в бритые русые головы, в сухие кричащие рты, в безумные, голубые, звереющие глаза.
По обеим сторонам дороги вновь расползлись жутким солнцем освещенные холмы. Пацаны вперили взоры в овражки и неровности холмов, но в самом краю зрачка многих из нас благословенно белел, как путеводная звезда, автобус.
«Всё…» — подумал я, когда автобус свернул вправо, на одну из проселочных веток.
Оглядываю пацанов: кто-то смотрит автобусу вслед, Семеныч уставился на первый бэтээр, Женя Кизяков — на горы, причем с таким видом, будто никакого автобуса и не было.
Солнце печет. Я задираю черную шапочку, открывая чуть вспотевший лоб. Несмотря на то что автобус свернул, освободил дорогу, колонна все равно еле тянется. Одна из сопровождаемых нами машин едет очень медленно. Из-за нее бэтээр и один грузовичок, идущие во главе колонны, отрываются метров на пятьдесят.
— «Восемьсот первый»! — раздраженно кричит Семеныч по рации, вызывая Черную Метку. — Назад посмотри!
Первый бэтээр сбавляет ход.
Дышим пылью, взметаемой едущими впереди. Слышно, как натужно ревет мотор третьей, замедляющей ход колонны машины.
Переношу руку на предохранитель, аккуратно щелкаю, перевожу вниз; еще щелчок, упор — теперь, если я нажму на спусковой крючок своего «калаша», он даст злую, хотя, скорей всего, бестолковую очередь. Кладу палец на скобу, чтобы на ухабе случайно не выстрелить. Упираюсь левой ногой в железный изгиб бэтээра, чтоб было легче спрыгнуть.
Как долго… Едем долго как… Хочется слезть с бэтээра и веселой шумной мускулистой оравой затолкать машину на холм. Хочется петь и кричать, чтобы отпугнуть, рассмешить духов смерти. Кому вздумается стрелять в нас — таких веселых и живых?
Третья машина наконец взбирается на пригорок, вниз ей катиться полегче. Уже виден мост. А окопы-то на холмах я просмотрел… С другой стороны ехал потому что.
В Грозном всем становится легко и радостно.
— Не расслабляйтесь, ребята! — говорит Семеныч, хотя по нему видно, что он сам повеселел.
Въезжаем на какую-то разгрузочную базу, грузовики там остаются, мы на бэтээрах с ветерком катим домой. С трудом сдерживаюсь от того, чтоб не прочесть вслух какой-нибудь стих…
Подъезжаем к базе, а там нечаянная радость — маленький рынок открылся, прямо возле школы. Дородные чеченки, числом около десяти, жарят шашлык, золотишко разложили на лотках, пиво баночное розовыми боками на солнце отсвечивает.
— Мужики, мир! Торговля началась! — возвестил кто-то из бойцов.
Бэтээры притормозили.
— Водка! Вобла! Во, бля! — шумят пацаны.
Возле торговок начштаба шляется с двумя бойцами, виновато на Семеныча смотрит, переживает, что не успел в школу спрятаться до нашего приезда, засветился на рынке.
Солдатики подъехали, наверное, с Заводской комендатуры, водкой закупаются.
— На рынок пока никто не идет! — приказывает Семеныч на базе.
Занимались только друг другом.
Выросший вне женщин, я воспринимал ее как яркое и редкое новогоднее украшение, трепетно держал в руках. И помыслить не мог — как бывает с избалованными чадами, легко разламывающими в глупой любознательности игрушки, — о внутреннем устройстве этого украшения, воспринимал как целостную, дарованную мне благость.
Вели себя беззаботно. Беззаботность раздражает окружающих. Нас, бестолковых, порицали прохожие тетушки, когда мы целовались на трамвайных остановках, впрочем, целовались мы не нарочито, а всегда где-нибудь в уголке, таясь.
Трогали, пощипывали, покусывали друг друга беспрестанно, пробуждая обезьянью прапамять.
Стоя на нижней подножке автобуса, спиной к раздолбанным, позвякивающим и покряхтывающим дверям, я гладил Дашу, стоящую выше, ко мне лицом, касающуюся своей большой грудью моего лица, — гладил мою девочку, скажем так, по белым брючкам. Она задумчиво, как ни в чем не бывало, смотрела через мое плечо — на тяжелые крылья витрин, взмахивающие нам вслед, на храм в лесах, на строительные краны, на набережную, на реку, на белые пароходы, еще оставшиеся на причалах Святого Спаса. Покачиваясь во время переключения скоростей, я видел мужчину, сидевшего у противоположного окна, напротив нас, он держал в руках газету. В газету он не смотрел, он мучительно и предельно недовольно косился на мои руки или скорей на то, чего эти руки касались.
Сидели в парках на траве, покупали на рынке ягоды, просили рыбаков на пляже фотографировать нас. И потом, проявив в ателье, разглядывали эти фотографии, удивляясь неизвестно чему — своей нестерпимой юности.
Любящие — дикари, если судить по тому, как они радуются своим амулетам.
Дикари, знающие и берегущие свое дикарство, мы не ходили в кинотеатры, телеви не включали, не читали газет. Мы обучались в некоем университете, на последних курсах, но и занятия посещали крайне редко.
Дурашливо гуляли и возвращались домой. Выходили из квартиры, держась за руки, а обратно возвращались бегом — нагулявшие жадность друг к другу.
Ее уютный дом, с тихим двориком, где не сидели шумные и гадкие пьяницы и не валялись, пуская розовую пену передозировки, наркоманы; с булочной на востоке и с громыхающим железными костями трамваем на западе; на запад выходили окна на кухне, и, когда я курил там весенними и летними утрами, мне часто казалось, что трамвай въезжает к нам в окно.