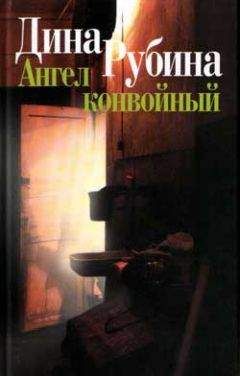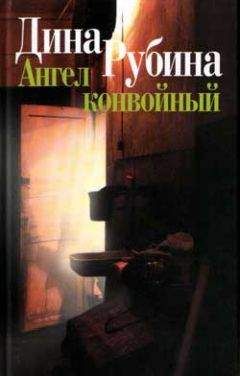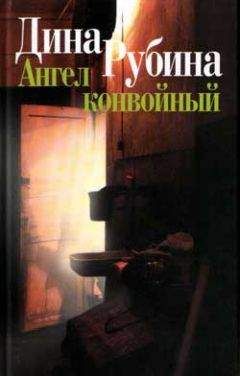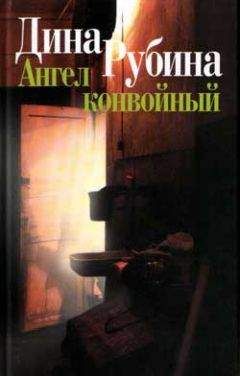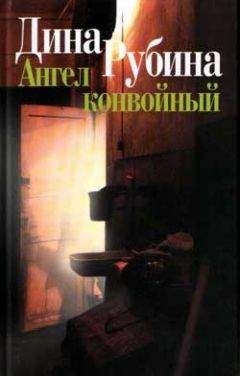Дина Рубина - Камера наезжает! (сборник)
Маленький вежливый человечек напомнил о моей многолетней каторге, о кнуте, который совсем недавно еще гулял по моим плечам. И плечи содрогнулись...
Папа семейства опустил тяжелую авоську с картошкой, и она грузно развалилась на асфальте.
– Я насчет дочки... – продолжал он, разминая руки с багровыми рубчатыми следами от веревочной авоськи. – Она такая способная, такая умница, вы просто получите удовольствие!..
– А-а, – поняла я, – вы хотите ее музыке учить?
– Вы будете получать большое удовольствие, – просительно повторил он и, спохватившись, торопливо добавил: – Цену сами назовите!
– К сожалению, я уже не связана с музыкой. Понимаете, совсем... – Я сделала огорченно-вежливое лицо и даже руками слегка развела. Потом искоса взглянула на часы и беззвучно застонала: домчать меня до издательства мог только лихой частник.
– Как это – совсем? – Он недоверчиво улыбнулся. – Ну, до-ми-соль какое-нибудь еще помните, туда-сюда?
– До-ми-соль помню, – уныло согласилась я, чувствуя, что втягиваюсь в какие-то нелепые объяснения, отнекивания, настаивания, вместо того чтобы вежливо, но твердо отказать сразу.
– Мы очень хотим вас, – сказал он и вздохнул. – Об вас во дворе хорошо говорят. Вы будете получать от нее удовольствие, она такая способная, моя Карина!
– Знаете что, – предложила я, – давайте я созвонюсь с друзьями-музыкантами и подыщу для вашей Карины хорошего педагога.
– Мы только вас хотим, – грустно, но настойчиво возразил он. – Ее покойная мать так мечтала об этом...
Я поняла, что погибла. Робкий человек, сам того не подозревая, огрел меня второй раз.
У меня есть жесткие правила, я умею отказывать. Я умею дорожить своим временем и оберегать его от посягательств ненужных мне людей. Необходимо только, чтобы люди эти были вполне благополучны.
Вот звонит приятель и просит написать рецензию на спектакль, поставленный его другом-режиссером.
– Исключено, старина, – мягко, но твердо отвечаю я. – Ты же знаешь, у меня жесткое правило – не делать того, чего не умею. Я не театровед – раз, времени нет – два, и в конце концов я просто не хочу, что само по себе вполне уважительная причина. Приятель понимающе поддакивает в трубку:
– Да, да, конечно... Ты права... Но жалко человека, понимаешь. Жена в больнице, дочка руку сломала, а тут еще главный – скотина, жрет его поедом, выпирает из театра.
Я еще мямлю что-то о срочном переводе, но жесткое правило – мой боевой конь – уже споткнулось о несчастья неизвестного мне режиссера, подпруга ослабла, и я вот-вот вывалюсь из седла. Где ты, мой боевой конь? Он подставляет шею под хомут, и это уже не конь, а рабочая кляча, которой можно понукать. И мой приятель это прекрасно чувствует и напирает:
– Да я тебе слово даю: вполне приличный спектакль, тебе даже врать не придется. Напиши пару добрых слов, поддержи человека в беде. Тебе это зачтется...
Где именно мне это зачтется, я уже не уточняю, потому что выбита из седла. Я только осведомляюсь убитым голосом, когда начало спектакля.
И вот я плетусь смотреть совершенно ненужный мне спектакль о пионерской совести и битых два часа пялюсь на сцену, где любимую всем классом пионервожатую играет старейшая актриса труппы. Я смотрю на ноги заслуженной актрисы – ноги пожилой женщины, страдающей тромбофлебитом, и тоскую... После этого дня три я маюсь со своей отнюдь не пионерской совестью и пытаюсь втолковать ей что-то про жену в больнице и скотину главного, а совесть посылает к черту мою тряпичность и отвечает, что на месте скотины главного давно бы уже выгнала из театра друга моего приятеля. В конце концов я все-таки выжимаю из себя две странички пошлой кислятины, где вру, вру бесстыдно, например, называю пожилую пионервожатую одной из удач спектакля. Подписываюсь, конечно, вымышленной серенькой фамилией и принципиально не покупаю номер газеты, где напечатана эта ахинея. Но совесть, или как там ее назвать, долго еще почесывает ушибленное место и похныкивает над ним.
– ...Да, ее покойная мать просто-таки мечтала, – сурово повторил папа семейства, – чтобы Карина научилась играть на инструменте... А цену назовите сами.
– При чем здесь деньги! – Я еще пыталась устоять, но это было уже бессмысленно. Есть понятия, которые своим святым значением действуют на мою жизнестойкость парализующе. Девочка была сиротой, и бесполезным становилось дальнейшее препирательство – я уже знала, что займусь этим не только ненужным, но и бесконечно мучительным для меня делом – стану давать девочке уроки музыки...
– Ну хорошо, – уныло сказала я. – Посмотрим... Я зайду сегодня, попозже. Познакомлюсь с вашей девочкой...
Он вспыхнул от радости и заговорил быстро, сбивчиво и говорил еще минут пять. А я вежливо кивала и от ненависти была близка к обмороку, если такая причина для обмороков существует. Я ненавидела его, свою будущую ученицу, свою тряпичность. Но больше всего я ненавидела свое музыкальное образование, и от этой бессильной ненависти першило в горле и чесались глаза.
Вечером я стояла в тесной прихожей, освещенной пронзительно-красным светом, и хмурая девочка лет двенадцати искала для меня тапочки. Наконец она вытащила из-за двери старые клетчатые тапки и бросила их передо мной:
– Не стойте босиком.
Из комнаты прошаркал старик – с белыми космами, с белой бородой, очень благообразный, но, по-видимому, сумасшедший, потому что девочка нахмурилась и сердито прикрикнула:
– Ну что тебе? Иди, иди ложись!
Этого старика я видела много раз. Весной, когда начинало пригревать, старший внук бегом выносил во двор старый венский стул, ставил его под нежно зеленеющим виноградником, потом забегал в дом и осторожно выводил деда. Тот часами сидел на стуле – красивый, как библейский пророк, с ермолкой на белых космах, – дремал или смотрел на происходившее во дворе пустынным заоблачным взором...
Старик вгляделся в меня и коротко спросил что-то на непонятном языке. Это был восточный язык, но не узбекский; узбекский я не то чтобы знаю – нет, я не знаю его, но чувствую ухом и небом.
Девочка крикнула:
– Нет, не мама! Иди к себе, я говорю!
И тут я заметила другую девочку, помладше. Она жалась к косяку двери и смотрела на меня с тихой улыбкой. Взгляд ее блестящих прозрачных глаз был даже не ласковым, нет – любовным. Она ласкала этим взглядом все вокруг – и меня, и сестру, и сумасшедшего деда, и дверной косяк. Она всех, всех любила...
– Ну, здравствуй, – сказала я ей. – Так это тебя я буду учить музыке?
– Нет. Меня, – буркнула старшая. – Вы зайдите, я сейчас. У меня там котлеты жарятся...
Она исчезла. Старик все еще молча смотрел на меня, тревожно и выжидающе, потом опять спросил что-то у младшей девочки. Та замотала головой и, бегло улыбнувшись мне, сказала: