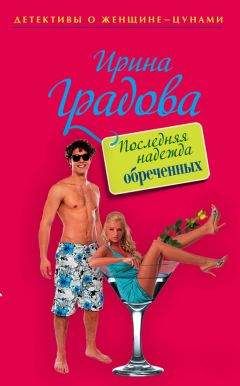Анатолий Рыбаков - Тяжелый песок
Во время обеда старик Сташенок сидел в углу, рядом — сыновья, по старшинству, на другой стороне женщины, с краю — хозяйка. Крошить хлеб считалось большим грехом, упавшую крошку поднимали — уважали хлеб. Оплеух, которые дедушка Рахленко щедро раздавал своим сыновьям, в доме Сташенков и в помине не было. Сташенки были хорошие мастера, но жили скудно, работали медленно, не торопились, любили добротно и со вкусом сделанную работу. Как я уже рассказывал, до революции Сташенок отделывал экипажи кожей и обивкой. После революции никто в экипажах не ездил, Сташенки изготовляли и починяли упряжную сбрую: хомуты, постромки, шлеи, — а такое мужик и сам починит. Так что доходы, сами понимаете… Дело угасло, старший сын, Андрей, пошел в депо, ремонтировал приводные ремни к станкам, чинил сиденья в вагонах, второй сын, Петрусь, работал на кожзаводе, а старик продолжал кустарничать со своими хомутами. Но жили по-прежнему вместе, семья была дружная, радушная и гостеприимная. Встречали вас словами: «Кали ласка », не знаю, как это перевести по-русски: «Милости просим!», «Будьте как дома!», «Осчастливьте нас своим присутствием»… Обязательно посадят за стол. И хотя главной их пищей была бульба — картофель, но из картофеля они готовили вкуснейшие блюда: бульба со шкварками, бульба с грибами, бульба с кислым молоком… А драники — картофельные оладьи с медом, сметаной или грибами — пальчики оближешь!
Ребенком я приходил в их мастерскую. Пахло сыромятной кожей, скипидаром, купоросом, лаком, уксусом, столярным и рыбным клеем. Сташенки сидели верхом на скамейках, где были укреплены деревянные тиски с зажатой в них очередной поделкой. Когда я приходил, Андрей и Петрусь лукаво переглядывались, и кто-нибудь из них начинал рассказывать о злых духах, обитающих в лесах, реках и болотах, добродушно пугал меня… Лесавик — отвратительное существо с громовым голосом и страшными, пышущими огнем глазами, сам кашлатый, то есть косматый, нячисьцяки — черти, живущие в болоте, охотники до всяких проказ… Сказки, конечно, но Сташенки рассказывали их очень достоверно, с подробностями, а я был маленький, на меня это производило сильное впечатление и связывалось в моем воображении с волшебным, таинственным и фантастическим миром. Дом Сташенков — одно из самых трогательных и поэтических воспоминаний моего детства.
И еще они любили петь. Ни у кого из них, правда, не было такого голоса, как у моей матери Рахили, но пели Сташенки хорошо, особенно, когда пели вместе. Мелодия белорусской песни, если вы ее слышали, несколько однообразна, даже, может быть, заунывна, но в ней есть своя особенная грустная прелесть, человечность и доброта.
Песен их я слышал много, не только грустных, но и веселых, даже озорных, но особенно запомнилась мне одна, может быть, потому, что ее пела маленькая Олеся, и мне было странно, что такую песню поет девочка. Вот эта песня:
Ой, хацела ж мяне маць
Ды за першага аддаць,
А той першы
За мяне старэйшы,
Ой, не адай мяне, маць!
Ой, хацела ж мяне маць
Ды за другага аддаць,
А той другi
Ходзiць да подругi,
Ой, не аддай мяне, маць!
Ой, хацела ж мяне маць
Да за трэцяга аддаць,
А той трэцi
Як у полi вецер,
Ой, не аддай мяне, маць!
Ой, хацела ж мяне маць
За чацвертага аддаць,
А той чацверты
Не жывы, не мертвы,
Ой, не аддай мяне, маць!
Ой, хацела ж мяне маць
Ды за пятага аддаць,
А той пяты
П'янiца пракляты,
Ой, не аддай мяне, маць!
Ой, хацела ж мяне маць
Ды за шостага аддаць,
А той шосты
Хворы, недарослы,
Ой, не аддай мяне, маць!
Ой, хацела ж мяне маць
Ды за семага аддаць,
А той семы
Добры ды вяселы,
Ен не схацеу мяне узяць…
Олеся была в семье Сташенков поздним ребенком, на десять лет моложе Петруся, в общем ровесница моему брату Леве, значит, на год старше меня, нежная, прозрачная, гибкая, как веточка, русалочка с льняными волосами. Знаете, когда в соседнем доме, соседнем дворе, рядом с тобой растет такая девочка и ты через низкий забор видишь, как она в саду, под яблоней, плетет венок и детским голосом напевает жалобную белорусскую песню, то, пока ты мальчик, ты не обращаешь на это внимания. Но когда подходит твой возраст и ты вдруг обнаруживаешь, что она уже не девочка, а девушка с сильными, стройными ногами и молодой грудью, то это переворот в твоей жизни. Но ты для нее всего лишь соседский мальчик, и она относится к тебе, как к мальчику, ласково, но снисходительно называет тебя «Мiлы хлапчук», хотя сам для себя ты уже не мальчик и тебе по ночам видится всякое, и то, что тебе видится, связано с этой девушкой… Все остается только при тебе, сначала тайной, потом воспоминанием…
Ну ладно… Олеся была комсомолкой, ей были поручены курсы ликбеза в деревне Тереховка, это от нас в двенадцати километрах, шагать туда и обратно надо пешим порядком. Хотя мы тогда недоедали, но были поразительно выносливы, вышагивали и по двадцать и по тридцать километров и не летом, летом крестьянин в поле, ходили осенью — в грязь, зимой — в снег и мороз. Отправлялись мы в Тереховку вместе, я и Олеся, она, как я уже говорил, на курсы ликбеза, я — для оформления стенгазеты, а вернее, чтобы охранять Олесю, все же девушка, а я, как ни говори, парень, хотя и младше ее, но, надо сказать, крепкий, здоровый; и, сознавая свою ответственность за Олесю, я чувствовал себя богатырем, был готов дать отпор кому угодно. Давать отпор было некому, банды были уже ликвидированы, и мы шлепали с Олесей проселочной дорогой, по осенней грязи, босиком, перекинув через плечо сапоги, связанные за ушки; у Олеси их всего одна пара, и у меня, хотя я и сын сапожника, и внук сапожника, и сам сапожник, тоже одна пара, и мне случалось давать свои сапоги ребятам, у которых их вовсе не было. Перед деревней мы сапоги надевали: босоногий горожанин не имеет авторитета в деревне.
Тем же путем возвращались обратно. Иногда нам давали лошадь, мы ехали в подводе — осенью, а зимой — в санях, в деревенских розвальнях, набитых сеном… Вечер, опушка леса, луна освещает темноватый Снег на полях, а белый снег на деревьях освещает милое Олесино лицо, голова ее и грудь крест-накрест перевязаны платком, блестят прекрасные, добрые и веселые глаза… Сено таинственно шуршит, нам тепло в этом сене, но мне кажется, что я чувствую ее, Олесино, тепло… Чего не вообразишь в пятнадцать лет, когда рядом с тобой такая девушка!
Я был тогда влюблен в Олесю, влюблен по-мальчишески, когда тебя будоражит молодая кровь, возраст и возраст же заставляет стыдиться этого чувства. Мне казалось, что все в нее влюблены. Может быть, так оно и было, но все мы знали, все мы видели: Олесе нравится мой старший брат Лева.