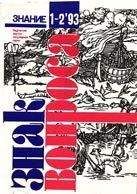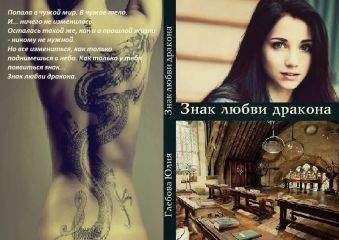Матиас Энар - Вверх по Ориноко
Глава 31
Есть приказ, шепотом сказал мне Энбер на третий день. Он знал, каким это будет для меня ударом, я на секунду прикрыл глаза, думая не о ней, о себе, прекрасно представляя, что последует дальше. Он сказал еще тише: заберут… Я кивнул, не потому, что соглашался, а потому, что знал, что последует за этим словом, — и тут же про себя продолжил: глаза, почки, естественно, сердце, может быть, печень, и знал, фраза на этом не кончится, Энбер сейчас скажет: там все уже ждут, это приказ, весь Париж узнал о замечательном живом трупе, который спит у нас в больнице: энцефалограмма — прямая линия, дышит на аппарате, но я знал и другое, он не смеет просить меня о том, о чем пришел просить, поэтому и ходит вокруг да около, а я и представить себе не мог, что делать это доведется мне, нет, я не могу, для меня это слишком, да у него и времени нет меня упрашивать, и я сказал: пусть забирают, пусть ждут.
Он сделал вид, что не понимает, но он притворялся, он прекрасно знал, что не сможет попросить меня об этом, ни меня, ни кого-то другого из нашей больницы, ни один из наших мясников не станет этого делать, наивно подумал я, все здесь ее знали, все с ней работали, никто не захочет это делать, но я знал, что я себя обманываю, Рошан это сделает, сделает совершенно спокойно, вздохнет, конечно: да, тяжело, но она же умерла, и верховный жрец Рошан наполнит одну за другой канопы-холодильники, повторяя как молитву: «Мы воздаем должное телу, мы служим жизни…» — только бы мне не поручили этого, никто здесь не знает, как близко я ее знал, это невозможно, я не вскрываю умерших, всем это известно, есть правила, никто не вправе просить меня об этом, и ты, Энбер, это прекрасно знаешь, — я сказал ему это взглядом, и он тоже смотрел на меня несколько секунд, прежде чем ответить, ему было очень неприятно, очень тягостно, но он все-таки сказал: дело терпит, не нервничай, но я прекрасно знал, что он и сам нервничает и в первую очередь, толстокожее животное, думает о тех, кто там ждет, и еще беспокоится: пройдет секунда, и ее состояние изменится, может остановиться сердце, возникнуть воспалительный процесс, закончиться отпущенная природой отсрочка — так обстоит дело, нам нельзя медлить, вот что сказал мне его взгляд, он внушал мне: ты знаешь, ничего изменить нельзя, все так и не иначе, медлить нельзя.
И вот я сижу у себя в боксе и думаю: в конце концов он прав, все так и есть, она умерла, и я это знаю лучше всех на свете, знаю, хотя сердце у нее еще бьется; я понимаю, что мне хочет сказать Энбер, понимаю его доводы и понимаю, как ему неловко, и прекрасно знаю состояние, в которое погружаюсь, которое мной завладевает, состояние это — отвращение, я его знаю наизусть, оно давно уже поселилось рядом и живет со мной в этой больнице, живет подспудно, но просыпается, когда доходишь до изнеможения, когда терпишь фиаско и теряешь больного; снова бессилие, я не могу решиться на новый кошмар, который обрушился на меня сегодня, сейчас, в эту самую минуту, когда неизбежность, еще вчера казавшаяся только возможной, берет меня за горло, пригвождает к необходимости, и я деревенею. Горе — это просто неподъемная тяжесть, мир не рушится, не текут помимо воли слезы, сердце не рвется на куски, нет грохота обвала, нет внутреннего вопля, — тягость жизни, когда ощущаешь ее во всей полноте, лишена горечи, горечь растворена обыденностью и привычкой; мы сделали все, что могли, жизнь доделает все остальное; все остальное становится тягучим и бесцветным, хотя тоже не навсегда.
И я сижу у себя в боксе и думаю: в конце концов, он прав, в палате лежит мертвое тело, остальное — силовые линии, они действуют до рождения, они действуют после смерти, из книги в книгу, из рассказа в рассказ, из истории в историю, из персонажа в персонаж; те, за кого мы держимся, кого избегаем, кто исчезает, появляется, уходит, возвращается, они превращаются в слово, исчерпываются им; она теперь стала воспоминанием, а тело слишком непрочный сувенир, его дни сочтены, только успеешь оплакать одно, как перед тобой уже лежит другое, все пациенты, и те, что умерли у меня на глазах, и те, что выжили, покинули меня, ушли каждый своим путем, одни правда ушли, другие остановились, она остановилась, а механизм продолжает работать, и одна деталь заменяется другой, на больничной койке, на строке реестра, куда более упорядоченного, чем у Господа Бога, на бланке с номером, необходимом для похорон, тут же появится следующий, мы привыкли хоронить, это часть нашей профессии, так дайте мне ее похоронить, дайте время пережить тяжесть этой минуты, она ведь еще здесь, а завтра, я знаю, я буду выхаживать другого больного на ее кровати и скажу ему, на простынях еще ее пот, месье, этот проводок тоже тянулся к ней, месье, и этот монитор регистрировал биение ее последних мыслей, я знаю, месье, быть здесь — значит не быть нигде, и все, что есть в вас и у вас, с этим вы и уйдете, мы ничего не можем сделать для вас, месье, разве что-то для вашего тела, и то, если вы нам позволите, если только не отгородитесь от нас, но я только что потерял дорогого друга, она была мне очень дорога, месье, и она лежала вот здесь, на том же самом месте, где сейчас лежите вы, месье.
Сидя у себя в боксе, я думаю: она умерла, но слова эти не имеют для меня никакого смысла — и нет никакого смысла подниматься к ней в палату и смотреть, как она лежит с закрытыми глазами, вот уже три дня, как выяснилось, что ее нет или почти нет, лучший невролог занимался ею, и все решено официально, в согласии с властями, я все знаю и понимаю лучше, чем кто-либо, но все-таки и вчера, и сегодня я мог подойти к ее кровати и послушать, как она спит, там, глубоко-глубоко за своими закрытыми красивыми темными глазами, которые у нее с крайней предосторожностью вот-вот отнимут, нуждаясь в роговице, и курьер на мотоцикле мигом доставит их в «скорую помощь», на лице у него будет испуг, а может быть, ироническая усмешка, закрытые веки недолго будут защищать ее прекрасные глаза — один за другим будут подходить к ней бальзамировщики, ничего не потеряют, ничего не сотворят, дождутся меня, чтобы изъять почки, в общем-то нехитрое это дело, как у слесаря-водопроводчика, погружу хладнокровно нож потрошителя, тихо успокою нервничающую сестру; а Юрий заберет у нее сердце — если он здесь — заберет бестрепетно, как уже забрал один раз, не подумав о нескончаемом кошмаре, заберет, а потом уже станет платить мучительной тоской и болью, как платит сейчас, он живет тем, что нажил, думаю я, он пытался залатать, зализать душевные раны, здесь, у нас в больнице, но не смог, не получилось, он один, он во тьме, он далеко, и он расплачивается, я не чувствую ненависти, не раскаиваюсь, я пытаюсь понять, да, пытаюсь понять и думаю только о том, что мне жутко, до ужаса жутко, и еще о том, что я должен сладить с собой, попытаться в конце концов принудить себя сделать то, чего требует мое ремесло, может быть, гораздо хуже отдавать ее в чужие руки, делай всегда то, что должен делать, уговариваю я себя, будь добросовестным врачом, добросовестным хирургом, добросовестным сыном, добросовестным мужем, добросовестным отцом; ведь случилось то, что положено, таков порядок вещей, мой скальпель отсекает излишек плоти, больной, омертвевший, зараженный, я отсекаю столько, сколько вы позволяете мне, избавляю от болезни в той мере, в какой вы сами хотите от нее избавиться; но ее конец не конец, в нем прячется тайна, загадка, я хочу узнать почему, — хотя, мне кажется, я догадался почему, в той борьбе, что велась между ними во тьме, Юрий уходил во тьму все глубже, уходил, пусть сопротивляясь, пытаясь поместить на свое место меня, он испугался, ему стало страшно, а я, я хотел быть на его месте, хотел, чтобы для меня все началось сначала, хотел сам начаться вновь, хотел, чтобы клетки, которые меня создали, снова пустились в путь, чтобы испепеляющее желание обратилось в созидание, в вечный двигатель, мне нужна постоянно работающая жизнь, мне она необходима, я хочу подняться вверх по реке и увидеть своими глазами исток, ощутить ту силу, с какой вода пробивает беловатую скалу и течет без препятствий к северу, хочу увидеть, ощутить, познать и только с мыслью об этой возможности я могу взяться за ужасную работу.
Руки под перчатками вспотели, помощники позаботились, чтобы я не видел ее лица, да, совсем не видел лица, и теперь медсестра посматривает на меня с беспокойством: живые покойники требуют большой осторожности, не знаешь, как приступить, с чего начать, и я делаю надрез не с такой уверенностью, как обычно, я знаю, Ода сейчас со мной, несмотря на всех своих пациентов, она меня жалеет, она знает, что сегодня мне предстоит работа расчленителя, капилляры едва-едва кровоточат, мне нужно проникнуть в брюшную полость, найти путь между органами, она знает, что я уже в пути, плотные ткани, бледная ободочная кишка, я уже в ее теле, хотя оно уже не ее — здесь нет больше ничего, что принадлежало бы ей, твержу я себе, но нужно, чтобы хоть что-то осталось, это пустая оболочка, вместилище, и я не отрицаю, что в конечном счете именно я взял на себя неблагодарный труд лишить ее самых драгоценных органов, отправить их неведомо куда, раздать то, что она могла бы погрузить в солнечную барку из душистого кедра, это не она, внушаю я себе, но если честно, уже об этом не думаю, я нервничаю, не зная, как поступить с артерией, думаю несколько секунд и вдруг понимаю, к чему иду, куда направляюсь, теперь я знаю, почему я все-таки за это взялся, я один на один с жизнью, и это мой долг перед ней, кто-то должен это увидеть, кто-то должен понять, да, это мой долг перед ней, перед Юрием, перед Большой рекой — я не смотрю на сестру, она застыла, приподняв руку, словно желая остановить меня, но я ориентируюсь среди внутренних органов как никто другой, я двигаюсь очень быстро, я прекрасно знаю дорогу, я стараюсь ничего не потревожить, я слышу, как сестра шепчет мне в спину: Игнасио, Игнасио; мы оперируем вместе десять лет: не надо, Игнасио, и она убегает, я знаю, она бежит за помощью, анестезиолог сидит в соседнем боксе, она скажет ему, что Игнасио сошел с ума, но нет, разум у меня не помутился, наоборот, он ясен как никогда, прежде чем все исчезнет, все растащат, сожгут, я хочу видеть только одно, впервые хочу воспользоваться привилегией моего ремесла касаться собственными руками и смерти и жизни, вторая моя ассистентка, молоденькая, тоже перепугана, она по-детски шепчет: доктор, доктор! Что же он там делает, думает она, чего хочет от разверстого так страшно тела, так похожего на мое, и ее история тоже похожа на мою, не вскрывают живых, по-настоящему живых или мнимо живых, думает она, — я отодвигаю последнюю мускульную пелену, матка набухла, она величиной с небольшой апельсин, оболочка у нее очень тонкая, я надсекаю ее и осторожно раздвигаю, она чуть-чуть кровоточит, в ней кроется крошечное воспоминание, еще без сердца, через секунду без жизни; просвечивающий рассказ — две черные слепые точки, три беловатые слезинки, обреченные на уничтожение.
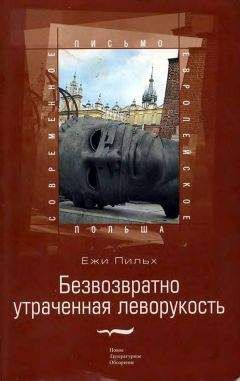
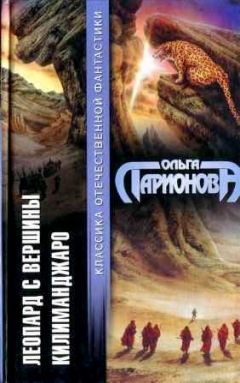
![Ольга Ларионова - Солнце входит в знак Близнецов [Страницы альбома]](/uploads/posts/books/no-image.jpg)