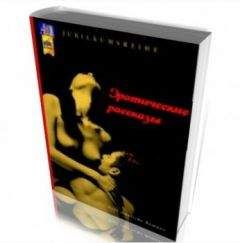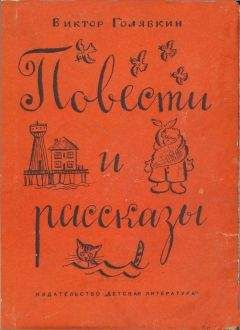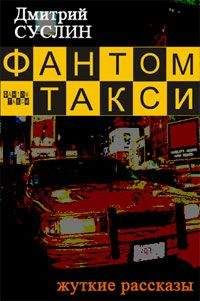Марк Ламброн - Странники в ночи
Марианна любила старомодные бары, где пахнет навощенным паркетом, опилками и адюльтером. Она усаживалась на высокий табурет и закидывала ногу на ногу. А я смотрел на край юбки, обтягивающий бедра. У француженок из обеспеченного класса вообще имеется бессознательно-эротичная склонность к демонстрации ног. В отношении груди они соблюдают некое целомудрие — возможно, это связано с мыслью о вскармливании будущего младенца. А вот ноги, которым для занятий теннисом и плаванием давно уже была предоставлена определенная свобода, могут явиться во всей красе. Тут начинается изощренная, напряженная игра, в ход идет все: крутой изгиб бедра, высота каблука, длина юбки, след, оставленный ее краем на коже, цвет колготок, гармонирующий с цветом платья. Состоятельные француженки обожают свои ноги. Подчеркивают их форму, придают им шелковистый блеск, облагораживают — и выставляют напоказ. В таком заигрывании есть доля бесстыдства, а может, даже извращенности. Марианна знала эту науку в совершенстве.
У нее были в Париже любимые уголки. Я встречался с ней в пассажах на правом берегу Сены — в пассаже Шуазей, галерее Вивьен, пассаже Панорам. Из-за света, проникавшего сквозь стеклянную крышу над нашими головами, казалось, будто мы попали в аквариум. Витрины, уставленные разными диковинками, антикварными вещами, тропическими редкостями, принадлежностями для ванны и душа… Ее каблуки звонко стучали по мозаичному полу. Марианна почти не разговаривала. Мы блуждали по этим лабиринтам, словно по воображаемому городу. Витрина, проулок, зеркало, закрытые ставни… К таким ухищрениям приходилось прибегать из-за одного родственника Марианны, который мог ее увидеть со мной. Воспоминания о ней окрашены в серо-голубой оттенок парижской зимы. Мне кажется, что я встречался с ней только в облачные дни. Она была стройной и не нуждалась ни в каких диетах, пальто всегда сидело на ней свободно и развевалось на ходу, отражаясь в глубине зеркал.
После этого она неизменно направлялась в одно и то же место — отель рядом с пассажем Жофруа. Там не было холла, только узенький коридор с окошечком, за которым читал газету старик-портье. Он протягивал нам ключ: «Вы ненадолго?» — и брал деньги. На лестнице стоял затхлый запах. На втором этаже ключ с трудом поворачивался в капризном замке. Комната была большая, но меблировка скудная, почти аскетичная. Шкаф из лакированного дерева, железная кровать с узорчатым покрывалом, умывальник. На потолке цвета слоновой кости краска растрескалась так, что там словно образовалась целая россыпь островов. Но Марианне требовалась именно такая обстановка — комната, будто изъеденная ржавчиной времени. Это была клавиатура для ее пальцев, музыка для ее раздумий. А почему, я не мог бы объяснить.
Однажды она показала мне письмо, полное эротического неистовства. От слегка пожелтевшего листка исходил запах увядшей сирени. Изящный почерк, окаймленный чернильными завитушками, словно жемчужинами. Текст этого письма, написанного мужчиной и адресованного женщине, представлял собой эротический вызов, жесткий, не смягченный ничем. Под ним стояла подпись размашистыми заглавными буквами: «Луи». Вверху дата: 1924 год. «Это письмо Арагона», — сказала Марианна. Я поинтересовался, что за женщина сорок лет назад получила это письмо. Она назвала мне имя. Это была ее родственница по материнской линии. Кто-то из родных вскрыл конверт — и эти слова поразили его в самое сердце, как пулеметная очередь. Это произошло в Париже, в 1924 году. Воздух в городе тогда мало отличался от теперешнего, да и женщины в момент пробуждения вряд ли выглядели иначе. Может быть, купальные полотенца были более жесткими, а шелковые ткани — без примеси и все дело именно в этом?
Пожалуй, можно допустить мысль, что Марианна пыталась заново разыграть сценарий, написанный призраками. Ее маниакальное стремление встречаться в пассажах на правом берегу и нигде больше, ее пристрастие к номерам в дрянных отелях, с отставшими от стен умывальниками… Все низменное обладает чудесной силой, которая располагает меня к наслаждению. Эти строки навеяны гневом, палящим дыханием войны, дотла сжигающим женщин. Но в 1964 году Арагон был еще жив. Марианна могла заглянуть к нему, надев платье от Dorothee Bis и красные туфли. Что бы он сказал этой юной сумасбродке? Рассказал бы историю письма сорокалетней давности, на котором чернила напоминали засохшую кровь? Вряд ли бы он даже стал его читать…
Марианна любила надевать платья под стать погоде: в ясные дни яркие, в пасмурные — более тусклых тонов. Она обдумывала предстоящее наслаждение как хитроумный план и стремилась к нему, как к некоему событию. Походы по злачным местам со случайным партнером, коротающим время до поезда. Я испытывал уважение к Марианне: ее взгляд не был холодным. В нем не было осмотрительности, а только спокойствие и чувство свободы. Дамам ее круга редко удается преодолеть эгоизм, который заставляет их придавать непомерное значение собственной персоне, собственной добродетели и тому, как они распоряжаются собственным телом. Их надо завлекать, завоевывать, пускать в ход чары и льстивые слова. Все это утомительно. За кого они себя принимают? А вот Марианна была нетребовательна, как женщина Востока. Мне редко приходилось слышать от нее слово «я» — опасливое, собственническое, себялюбивое «я» чопорной француженки. Какой смысл делать из этого целую историю, ведь смерть в итоге все расставит по своим местам?
Я проглядываю воспоминания об этих рискованных вечерних играх как милый сердцу фильм. Зеркальные дверцы шкафов, перечеркнутые линией обнаженных тел… Помню, она, словно фотограф, выбирала определенные позы, чтобы я не мог видеть ее глаз. Например, она сидит у меня на коленях, ко мне лицом, ее зад ритмично двигается, голова опущена, волосы свесились и заслонили от меня ее рот. Или лежит на полу, выгнувшись, молча, закрыв лицо руками. Она оставила мне свой автограф: парижские сумерки, холодные зеркала, мгновение ради мгновения, нагота без лица. Десять лет спустя я услышал, как один хам пренебрежительно бросил: «Ну, эта дамочка коллекционировала члены». Но я думаю, что у Марианны было обостренное чувство времени, того, что оно может дать, и того, что оно отнимает, и в свои тридцать лет она оберегала себя от напрасных сожалений в будущем. Я благодарен ей за это безумство, в котором она оставалась честна со мной. Я часто пытался понять, зачем столько женщин обрекают себя на вечную ложь, вступая в брак, и как они могут хоронить себя в этой пустыне, куда не доносится звук живого голоса. «Воспитанностью можно загубить себе жизнь», — написал кто-то. Я знал женщин, которых воспитанность едва не удушила. Взгляды, полные стоической выдержки, отчаяние, лишающее дара речи. А вот Марианне хватило мужества признать некоторые истины. Сказать себе, что каждое мгновение невозвратимо, а тело требует свое. Преодолеть ненависть, приходящую на смену страсти, перестать быть маленькой девочкой, неугомонной, деспотичной, всюду сующей свой нос и вымещающей свои огорчения на других, понять, что надо быть великодушной, что у всякого мужчины есть мечта и не надо убивать эту мечту, по крайней мере не убивать ее сразу, — французские женщины, с которыми стоит иметь дело, редко становятся союзницами смерти. Я не был влюблен в Марианну, и все же она пробудила во мне мечты.
…
По некоторым причинам — позже будет ясно, по каким именно, — мне запомнилась та декабрьская неделя 1966 года, когда меня принял Андре Мальро, занимавший пост министра культуры. Я собирался узнать его мнение по ряду актуальных вопросов. В аппарате министра мне назначили прийти во вторник, в три часа. Меня попросили подождать в одном из залов Пале-Рояля, изобилующем позолотой и пурпурными драпировками, с потолком в кессонах. Иногда слышались мелкие шаги секретарш, приглушенные пушистыми коврами. Затем появился служитель с массивной цепью на груди:
— Министр сейчас вас примет.
Я пошел за ним. Он привел меня в небольшую комнату перед кабинетом, постучал в дверь. Оттуда донесся гортанный возглас. Служитель отступил в сторону, и я вошел.
В эту секунду Мальро опускал на рычаг телефонную трубку. Он встал. И я увидел его глаза, словно обращенные внутрь. Поредевшие с годами волосы были зачесаны назад. Он был одет в темно-синий костюм с белой рубашкой, белым платочком в нагрудном кармане и галстуком под цвет костюма. Он подошел ко мне и пожал руку — быстро и крепко, как боец. У людей, которые составляли круг единомышленников во времена Андре Жида и Троцкого, еще сохранился рефлекс товарищества. Он окинул меня острым взглядом хищной птицы. Потом опять уселся за письменный стол, дернув плечом, словно коннетабль, поправляющий плащ.
— Чем могу быть полезен?
Он сплел пальцы рук и оперся о них подбородком, но через секунду его ладони снова раскрылись, как будто не могли находиться в покое. Казалось, из его рук выпорхнули невидимые бабочки и разлетелись по кабинету.

![Ата Каушутов - Точка зрения (Юмористические рассказы писателей Туркменистана) [сборник]](/uploads/posts/books/228972/228972.jpg)