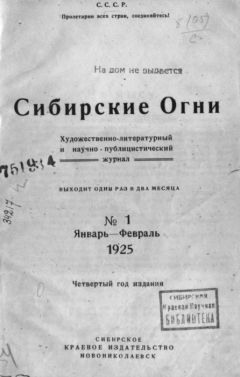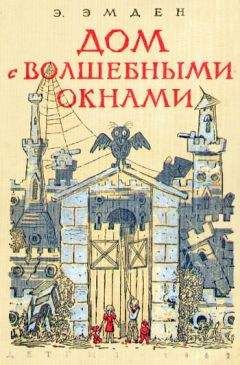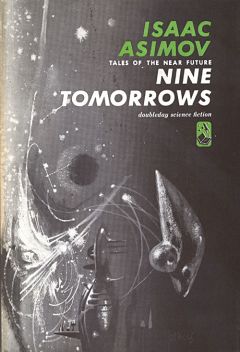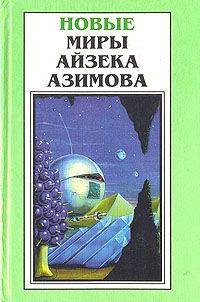Исаак Шапиро - Черемош (сборник)
Ткачук видел: у многих вокруг потухли глаз.
Мужиков потянуло на курево. А бабы выпростали из-под грудей руки и стали скликать малышей.
Тряхомудь
Яша не курил, только несерьезно пользовался чужими – еще бы, ему, как шоферу, никто не откажет. А Ткачук всегда охочий до табака, голова скучает без курева, но деньги пускать на дым… В компании он настороженно выжидал, томился, пока пробудится совесть, чтоб предложили, а после благодарил, сиплый от волнения, кивал, как дятел, и украдкой нюхал сигарету.
Наедине пожаловался Яше:
– Прежде, бывало, возьмешь тютюна скруцак – он запашистый…
Яша махал потухшей спичкой, смеялся:
– Скруцак! – скажете такое… От ваших слов – на жопу сядешь! Придумали – скруцак!
– Чего не ясно? Абы тютюн сберечь, лист скручивали, оттого и скруцак…
– Вуйко Тодор, в каком веке живете?! У вас все слова допотопные. Язык сломаешь! Говорят «сирники», но то не сырники, то спички. В другой раз «сирник» – не спички, а часы. А часы уже – будзик! Опупеть можно! И где понабрали эту тряхомудь?
– Ото всех понемногу. Кто хозяйничал, тот и оставил. Раньше здесь немец управлял, потом – румыны. Мадьяры были, поляки, теперь вот русские…
– С миру по нитке, что ли?
– Не-е-е… Почему? Наша мова файна! Не жалуемся. Она у нас вроде сборной ухи. Знаешь, самая смачная, которая из разной рыбы. Когда в наваре и щупак, и рыбец, и судак, и печень налимова – ото уха! И струга[48] туда добавить, по-вашему, хворель. Надо же, первейшего красуня – хворелем обозвали! А он есть – струг, быстрины держится…
И разговор свернул на милую обоим стежку: что окунь сейчас берет на блесну, а ерш – на червячка. И налим в сентябре из нор выходит, к дурной погоде клюет… Вай-ле! Да что бывает лучше разговора про рыбалку?! Разве что уха! – с дыму, с жару, здесь же под бережком, злым перчиком заправлена, хлебай в свое удовольствие! Вот только ложка пропала… Была – и нет, хоть плачь. Уже пар ноздри ломит, а она утерялась, зараза оловянная! Может, в траве посеял, может, под сушняком… И куда ее законопатило, курва ее мама…
Бревно
Должно быть, в Карпатах обрушились ливни, а здесь, в низовье, небо сплошь захмарило, ни щелочки просвета, но не пролилось – от редких капель только листья заблестели да пыль прибило.
Зато река взбухла, раскинулась самовольно по впадинам и отмелям. Лощины скрылись под паводком, и в быстром течении гибкие концы чернотала виляли по сторонам собачьим хвостом.
Высокая вода подкралась до крайней борозды огородов, кое-где тронула нижний ряд плетня, но на большее сил не хватило – стала спадать. Река постепенно возвращалась в прежнее русло, оставляла вдоль берега мусор и полосы бурой пены.
В мутном потоке клев был отменный. За малое время Ткачук добыл три красноперки, по фунту каждая, и парочку окуней. Но не терпелось ему на месте, вскидывал удочку и снова спешил подальше от села, других опередить.
Оно понятно: Ткачук дровами с реки кормится. И другие-всякие не хуже его по этой части соображают. Оттого торопиться надо, подобрать любую деревяшку, что река забраковала: обломок доски, бочковую клепку, корневище или разбитый ящик с зубьями ржавых гвоздей – все это сложить в кучу, тогда видно, что кто-то для себя старался, и не тронут.
Но ворох этого хламья – не главные дрова. Что наверху лежит – каждому доступно. Вот захованное углядеть – наметанный глаз нужен. Иной без внимания по бережку шлендрает, одно ротозейство да рыба на уме.
А Ткачук, на манер минера, все подмечать должен: где над речной рябью гулька малая выросла или струи ломают плавность, разбегаются углом и цвет в том месте чернотой отдает. Значит, сыспода, под водой и гравием, вековой кряж таится. Не чета сегодняшним: полтора метра в комле. Должно быть, сотни лет в глубине лежит, еще со времен, когда здесь леса шумели немереные и дерево само хрястало от непомерной тяжести.
Но угадать, где этот топляк прячется – треть работы, самая тягота – выковырить его из гнезда, когда он намертво в грунт заклинен. У любого трактора жилы лопнут.
Тут братьев Лошковых звать надо, лучше них никто не справится, и инструмент подходящий имеют, не зря на железке служат. Ставят они козлы над кряжем, подъемник приспособят с двойной передачей, и пошла копошня на целую неделю. По сантиметру земля отпускает ствол – нехотя, со скрипом, будто у нее последнее берут. Но Лошковым не привыкать: пыхтят вокруг дерева, как бобры, ныряют под него, бьют скобы, лебедку вертят, и с каждым днем ствол медленно выползает из норы, и водоворот шибче змеится по течению.
Весь этот час Ткачук бывал не при деле. Чтоб не мозолить братьям, не появлялся на берегу, пока проку от него ни на фунт. Затем наступал момент, когда ствол начинал податливо раскачиваться, «дышать» говорили Лошковы, – то было приметой, что держится он, как молочный зуб, на одной нитке, и братья назавтра звали Ткачука.
Трещит лебедка, наматывает на барабан колючий трос. Со дна поднялось мутное облако ила, и вот уже дерево, в сизой грязи, с камешками, вросшими в кору, вольно гойдается[49] на волнах. К стволу вязали веревку, в нее впрягался Ткачук. Шел он по краю берега – добро, когда без преград, а чаще – пер напролом сквозь заросли колючего терна, тягал по воде добытую удачу. Один из братьев упирался шестом, направлял бревно, чтоб не жалось к земле. Второй Лошков, тот вовсе ничего путного не делал, держался за комель, на случай подтолк нуть, если застопорит на перекате.
Так что, пока волокли к селу, Ткачуку доставалась самая тяжкая работа, считал он, но не прекословил, тянул веревку, только покряхтывал да хватался за деревца, чтоб не свалиться ненароком с сыпучей грани. Знал, что Лошковы еще натрудятся, когда причалят, а ему снова не будет занятия.
Наконец бревно на толоке. Поплевав на ладони, братья врастяжку шаркали пилой. Мореная древесина поверху крошится, и скоро из-под разведенных зубьев на земле вырастают два холмика мохнатой трухи. Со временем пила замедляет ход, звук становится жестче, вроде ствол пропитан раствором бетона. Колышутся темные от пота рубахи. Блестит узкое тело пилы, дзвенькает обиженно, жалуется вслух, что ее, как сучку, каждый к себе тягает. А из бревна, из концов глубокого разреза, будто пульсируя, брызжут розовые струи.
Отпиленную колоду Лошковы расклинивали на куски и, сложив срубом, оставляли сохнуть на солнце. Потом делили на три равные части и, если судьба не скупилась, одаривала щедро, то дров хватало до весны. Правда, раз от разу приходилось стянуть с посадки оберемок[50] хвороста, но это не в счет. Главное, угля покупать не надо. «Черное золото» – говорят, и берут как за золото. А откуда у Ткачука деньги? Уголь жар держит, слов нет, но ведь сколько не топи, к утру хата опять выстужена.
Да и что есть уголь? – черная немота. То ли дело – дрова! С ними и поговорить можно. Скажешь: горим, братчики! – а они фырчат в ответ, разгорячатся, по-своему тараторят, о чем – не понять, но все равно хорошо, что базикают![51] Нехай на дворе зима лютует – не страшно, если в трубе дрова гудят.
Ткачук поднялся на высокий берег. Отступая, вода покрыла низины склизкой грязью, месить ее – удовольствие малое, а растянешься – калекой станешь, не дай-бо… Зато здесь, наверху, – и сухо, и призор лучше. Ткачук на зрение не в обиде, и хоть нитку вдеть не получается, марь застит, но для дали у него зенки что у коршуна.
По свежей пахоте расхаживали вороны, молча и угрюмо, как монахи. Вдоль дороги выстроилась шеренга тополей. Пустое дерево, считает Ткачук, только в гору растет да хрущам приют, ни продукта, ни защиты. Одна, может, польза – знак подают, сколько до села топать. Ткачук сделал берегом долгий крюк, но снова вышел недалеко от околицы.
Весь этот путь река блуждала, вязала петли меж зарослей узколистного вербняка. Лешевые места, непуганые. Над водой свисали тонкие вицы с желтыми сережками, почти касались течения. Дырявые тени лежали под берегом, а где излука брала начало, до самого села зеленел простор житнего поля.
Ткачук глянул с обрыва и вдруг радостно ругнулся: на стремнине, среди белых всплесков, качалось бревно. Вай-ле! Метров семь-восемь будет! Лесхозное! Из дока, наверно, смыло: в большую воду часто случается, но для других… Нет, не обманулся сегодня Ткачук, не обманулся…
Первым желанием было бежать к броду, но вспомнил с досадой: оттого и плывет бревно, что половодье, бродов нет. Сюда плоскодонку бы. Но кто решится выйти? Один Ваньця Лозовик страха не имеет. У него руки долгие, достанет шестом до дна. Вопрос: где Ваньцю сыскать? Магазин в этот час еще закрыт…
…А ноги уже несли к селу. Напрямки тут недолго, а для такого дела – пулей можно. Главное, Ваньцю срочно найти, он не откажет, на риск выйти – ему в усладу, только скажи, в два счета бревно забагрит!
Внезапно небо над головой заполнил стрекот мотора. Должно быть, вертолет. Но Ткачук притушил любопытство, некогда рассматривать, пустяками забавляться. Поспешать надо. Придумали вертолетов на нашу голову, небеса вхолостую пашут, а для земли нет их, для земли моторов не хватает. Ткачук все понимал, может, даже больше, чем другие, но как железо летает, понять не мог, не клеилось это в мозгу. И когда заходила речь о спутниках да космосах – не сомневался, точно знал, что брехня. Мало чего в газетах врут, бумага стерпит, про жизнь счастливую тоже написано. Какие там спутники, когда топить нечем?!