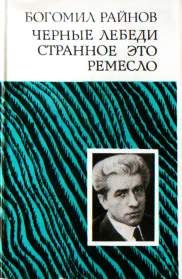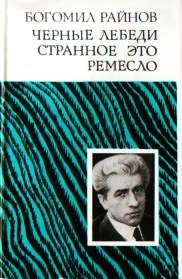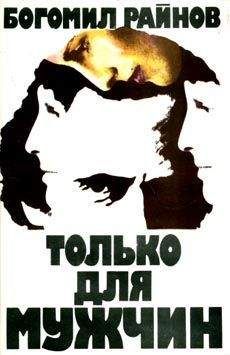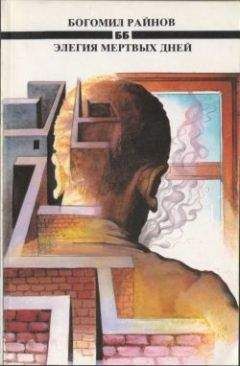Александр Шаргородский - Сказка Гоцци
Короче, теория — теорией, марксизм — ленинизмом, а вокзал, между тем, надо было взрывать. Надо было строить новый. И тогда партия приняла соломоново решение, потому что соломоново решение могут принять и антисемиты. Мудрая партия решила: в тот исторический теплый вечер Владимир Ильич вышел на площадь не из левой и не из правой двери, а из обеих одновременно..
И обе двери были признаны историческими…
— …Не стой голый у окна, — сказала Катя, — ты смущаешь людей. — На фоне ночного окна Саша смотрелся как юный Давид, во всяком случае, так казалось Кате. И было между ними всего два отличия — Саша был не обрезан и у него отсутствовал фиговый листок. И еще он никогда не боролся с Голиафом… Но ведь и Давид никогда не видел великого вождя. Даже в гробу. А Саша его там видел дважды. В мавзолее…
Катя, сидевшая на краешке кровати в прозрачном пеньюаре, напоминала Офелию. Во всяком случае, такой ее представлял Саша. Только у Кати была короткая стрижка, как у мальчика, и очки. Офелия, вроде, очков не носила?.. И еще Катя любила «Давида». Вы представляете Офелию замужем за царем Давидом?! Эго все равно, что если б Жанна д’Арк вышла за де Голля!
Босой Давид отошел от окна и налил себе остывший кофе.
— Сегодня я опять летал, — сказал он, — над Нью-Йорком. Я залез на Эмпайр и полетел. Я пролетел над Манхэттеном, свернул к Гудзону и начал парить к океану. Я обгонял чаек, буревестников, альбатросов, военные корабли и даже истребители Соединенных Штатов. Там, в вышине, дышится так легко, как в детстве на дюнах… Я хотел опуститься и сесть где-нибудь на Парк Авеню или 42-й… Я хотел пройтись, поболтать со всеми этими разноцветными людьми, хлопнуть кого-нибудь по плечу. И чтоб меня тоже хлопнули… Но я не смог приземлиться и полетел в Европу. Над Парижем я ударился об Эйфелеву башню и упал на Монмартр.
— Ты довольно далеко отлетел, — сказала Катя.
— Я здорово ударился. И упал прямо в бистро. В «Клозери де лила». Там сидел Верлен и писал.
— Месье Верлен, — спросил я, — о чем вы сегодня пишете?
— О любви, — сказал Верлен, — только я Валери…
Я был готов провалиться сквозь землю! И провалился. И оказался рядом с тобой…
— На каком языке вы беседовали? — спросила Катя.
— По-русски, — ответил он.
— Тогда это был Эренбург, — сказала она.
— Не имеет ни малейшего значения. Я был в Париже. И меня окружал сиреневый вечер. И нигде я не видел памятника с простертой рукой…
Он помолчал.
— Почему ты никогда не летаешь?
— Я падаю, — сказала она, — я куда-то проваливаюсь.
— Куда?
— Недалеко. Я даже во сне не покидаю наши границы.
— Зря, — сказал он, — это как-то освежает.
— Возможно, — согласилась она. — Ты уже облетел весь мир.
— Я не был в Австралии, — заметил он, — она так далека, что не хватит ночи, чтоб долететь до нее.
— А ты не пробовал летать днем?
Офелия налила себе кофе. Современные Офелии и Давиды пьют слишком много кофе, и вообще много пьют и много курят.
— У нас там еще осталась водка? — печально спросила Офелия, и Шекспир, если он только существовал, перевернулся в гробу.
Потому что еще никто не знает, был ли Шекспир, но все уже знают, что он был гомосексуалистом… Они пили водку, курили и молча смотрели на здание вокзала, которое вот-вот должно было исчезнуть навсегда…
На пятой стопке вокзал взлетел на воздух. Причем, фигурно — вместе с историческими дверьми. Исторические двери летали по звездному небу, колошматили друг друга, будто продолжая научный, спор, а потом обе опустились на лысину вождя, и великий вождь будто вторично прошел сквозь них. На сей раз действительно одновременно.
Великий вождь прошел и даже не вздрогнул — видимо, ему было давно начхать на все это.
А вздрогнули только Катя и Саша. И долго молчали. И Саша сказал.
— К черту, — сказал он.
И Катя сказала: — К черту!
— Больше не могу, — произнес он.
— И я, — повторила она.
— Я не могу здесь дольше жить, — сказал он. — если я не уеду — я задохнусь.
И вид был у него отчаянный. Такой вид был, наверное, у Давида, когда он запустил из пищали в голову Голиафа.
— Тебе не надо было возвращаться из Парижа, — сказала она. — Если б я не падала, а летала, я б даже с Мадагаскара не вернулась…
Он долго смотрел на Катю, провел рукой по ее мальчишескому смешному лицу и почти печально сказал:
— Ну почему в тебе нет еврейской крови?
Это прозвучало почти как обвинение.
— Твои предки женились и выходили за кого угодно, но только не за евреев. Они что, были антисемиты? В тебе течет шесть кровей, какой-то компот — польская, украинская, русская, мадьярская — и ни одной подходящей!
— Расист, — сказала она, — ку-клукс-клановец! Столько женщин разных национальностей в одной. Ты не можешь жаловаться! Даже у Дон Жуана не было ни одной еврейки!
— Дон Жуан никуда не собирался, — заметил Саша.
…М-да, если б Гитлер знал, что кто-то так упорно будет искать в себе еврейскую кровь, он бы подох, так и не придя к власти. И вполне возможно, что то же самое сделал бы и Иосиф Виссарионович. И лежали бы они себе тихо, в земле, неудачник из Линца и тифлисский хулиган, каждый в своей, которую они так обильно полили чужой кровью. И не надо было бы, может быть, искать в себе Кате и Саше того, чего нет…
— А почему твоего дедушку звали Лева? — спросил он.
— В честь Толстого, — сказала она. — И потом он был ксендз.
— По твоему, ксендз не может быть евреем? Римский Папа даже был, не то, что ксендз!
Он помолчал.
— А то, что тебя иногда обзывают «жидовской мордой», это тоже в честь Толстого?
— Саша, — сказала она, — для них всякий очкастый — еврей, а очкастый интеллигент — жидовская морда.
Они сели и принялись думать. И начали рисовать свои генеалогические древа. Но ни на одной из многочисленных ветвей их не висело ни одного, даже самого маленького, даже самого щупленького, даже самого неказистенького еврея! Даже полукровки не висело!
Да и деревца-то сами были низенькие, чахлые, какие-то саксаулы!
Их слабые корни не простирались дальше бабушек и дедушек, и даже прадеды не свешивались с суков их…
Да и кто в России знает свою родословную дальше? Только компетентные органы. И то они знают не свою, а вашу!..
— При всей моей любви к папе, — сказал Саша, — почему я не незаконорожденный?! И почему мама была так верна?! Разве не могла она полюбить еврёя-комиссара, с горящими глазами, на вороном коне? И провести с ним одну жаркую ночь где-нибудь в степях Украины?! Чтобы дать мне возможность ускакать из этих степей! Почему женщины, если и верны, то так некстати…
Он затянулся.
— Ты чувствуешь, как иногда важно родиться в семье, где царит разврат? У вас, случайно, не царил разврат? — в его тоне была надежда,
— Им было некогда, — сказала Катя, — они строили социализм. Я появилась на свет случайно, впопыхах — между двумя великими стройками…
Поиск шел всю ночь. Саша босиком носился по комнате, хлопал дверцами шкафов и холодильников, что-то жевал, ругался и искал в себе следы иудаизма. Катя искала сидя.
Светало, но нужной крови в чете не обнаруживалось.
И тогда Саша решил стать евреем просто так. Без крови.
Вместо взлетевшего вокзала перед ним открывались необъятны горизонты, они уходили далеко-далеко, почти до 42-й улицы, почти до самого Монмартра, на который он когда-то упал, и вот откуда-то оттуда, медленно и торжественно поднималось красное солнце и весело подмигивало ему.
И когда мудрая лысина великого вождя отразила первый лучи этого солнца, Саша произнес:
— Человек может стать всем, — сказал он, — даже евреем!..
ЕВРЕЙ С ТИГРА
После той странной ночи с ее фигурным взрывом с Сашей начали происходить странные вещи.
Сперва в научном институте, где он работал, сослуживцы заметили у него довольно неожиданный и совершенно новый дефект речи. Если раньше Саша обязательно окал, то теперь вдруг закартавил, и можно было биться об заклад, что это единственный человек, который окал и картавил в одно и то же время… Потому что если ты окаешь — ты родился на Волге, а если картавишь-то в Жмеринке или в Крыжополе, а родиться одновременно на столь разных географических широтах невозможно, даже в стране, от которой можно ожидать все!..
Во время обеда в институтской столовой, когда все брали гуляш, или рагу, или кислые щи, он осторожно спрашивал фаршированную рыбу, «гепекелте флейш», фаршмак, струдл и цимес, чем ставил честных работников общественного питания в неловкое положение, а однажды, так даже заставил онеметь, спросив, кажется, весной, сто граммов мацы…
Дядя Миша, очень любивший Сашу Петровского и работавший в столовой больше четверти века, выискал рецепт и приготовил специально для него фаршированную щуку, но Саша поблагодарил дядю Мишу и к рыбе не притронулся, так как она была приготовлена не в кошерной посуде…