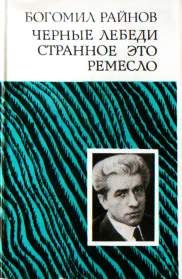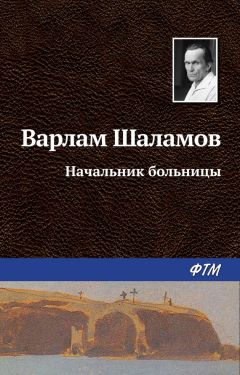Богомил Райнов - Странное это ремесло
Грек не питал никакого пристрастия к искусству, он — как выразился бы Леконт — мог с таким же успехом продавать бюстгальтеры, а не произведения живописи. Интересовало его только имя автора, сюжет картины и размеры холста.
— Не попадался вам Мурильо? — спрашивал он.
— Нет, но на Сен-Жермен есть «Мадонна» Моралеса, — отвечал я.
— Моралес меня не интересует.
— Я думал, вы ищете испанцев.
— Только Мурильо. И только детские портреты. А что вы в последнее время видели из импрессионистов?
— В Романской галерее есть натюрморт Ренуара, розы.
— Розы меня не интересуют.
— Но ведь это Ренуар.
— Да, но розы мне не нужны.
— Есть еще два эскиза Дега.
— А что на них?
— Лошади.
— Лошади меня не интересуют. А еще что-нибудь, пусть более старое?
— В Фобур Сент-Оноре я на днях видел прелестный пейзаж Добиньи.
— Надо будет взглянуть. Размеры?
— Довольно большое полотно. Примерно восемьдесят на метр двадцать.
— Тогда оно меня не интересует.
Однажды я сообщил ему, что видел в одной частной коллекции эскиз маслом Рубенса.
— У владельца финансовые затруднения, он просит сорок миллионов. С экспертизой и полной гарантией.
— Рубенс меня не интересует, — равнодушно обронил грек.
— Рубенс?! Может быть, и Вермеер, и Франц Хальс, и Рембрандт тоже? — с раздражением спросил я.
Он рассмеялся.
— Да, они, может быть, тоже, если в данный момент у меня нет на них покупателя. Я ничего не говорю, Рубенс — это вещь, но на черта мне замораживать сорок миллионов на одном эскизе, если неизвестно, когда и за сколько удастся его сбыть? Проще положить эту сумму в банк, я без всяких хлопот получу на два миллиона процентов.
Он вынул из внутреннего кармана пиджака элегантную записную книжечку в кожаном переплете, полистал.
— Вот, тут у меня несколько десятков имен художников, часто с указанием сюжета и размеров холста. Это работы, на которые у меня есть готовые покупатели. И помимо этого меня больше ничто не интересует.
— Я думал, вы берете некоторые хорошие работы про запас.
Грек покачал головой.
— Я не настолько богат. Другие так делают, но я не настолько богат.
В каждый свой приезд в Европу он покупал картины на десятки миллионов, эти миллионы приносили ему другие миллионы, и все-таки он жил с горьким сознанием, что недостаточно богат. Я-то считал, что у него не денег маловато, а знаний и вкуса. Видимо, он это сознавал и сам, потому-то и избегал рискованных сделок.
А для меня тем временем наступил бронзовый век.
* * *
День первый этого века пришел совершенно случайно, когда я блуждал по бульварам неподалеку от площади Республики. Я редко попадал в эти края — тут не было ни лавок, где торговали гравюрами, ни больших книжных магазинов. Медленно брел я по улице, свободный в те минуты от всех коллекционерских страстей, и вдруг заметил витрину. От нечего делать подошел и без особого интереса стал разглядывать выставленный товар.
По правде говоря, он не заслуживал внимания — бронзовые фигурки второстепенных или даже совсем посредственных авторов, обнаженные женские тела наподобие тех баядерок, о которых я уже говорил, львы и тигры работы неумелых эпигонов Бари, сецессионные статуэтки с часами или вздыбленные кони, назначение которых — подпирать на полках книги.
Рассеянно обозрев все это, я по привычке устремил взгляд внутрь магазина. По сравнению с освещенной солнцем витриной помещение казалось совсем темным, но я все же как будто различил в углу бронзовую голову, которая показалась мне знакомой.
Я вошел в магазин, где единственной живой душой оказался худой и бледный человек с седеющей шевелюрой. Он любезно ответил на мое приветствие, встал из-за стола и с готовностью поспешил навстречу, чего я не выношу: ужасно неприятно, когда продавец ходит за тобой по пятам, без устали растолковывая достоинства каждой вещи, и вообще так усердствует, что чувствуешь себя просто обязанным что-то купить.
— Мне бы хотелось посмотреть вон ту голову, — объяснил я, указав на бронзу в углу.
— А-а, «Марсельезу» Рюда! — хозяин понимающе кивнул. — Первый его эскиз… Великолепная работа…
Работа и впрямь была великолепная, и я просто дивился тому, что такой шедевр мог затесаться в табун арабских скакунов и обнаженных красавиц. Эта голова была изваяна живее и свободнее, чем голова той «Марсельезы», что украшает Триумфальную арку. Скульптор использовал в качестве модели свою жену, он заставлял ее позировать с открытым ртом и кричать, чтобы лицо выглядело как можно напряженнее. «Кричи! Кричи громче!» — требовал Рюд, стремясь передать силу призыва и героическую решительность фигуры, символизирующей Республику, что, вероятно, было мало присуще бедной домохозяйке, которая вынуждена была отрываться от готовки, чтобы угодить капризам своего мужа.
«Кричи! Кричи громче!» И вот сейчас передо мной было это вытянутое от напряжения лицо, и этот властный взгляд, и эти выбившиеся из-под фригийского колпака волосы, и мне казалось, что я слышу взволнованный призыв к бою, и это было уже не лицо скромной парижанки, а патетический образ Республики, сзывающей своих сынов в час смертельной опасности.
— Чудесный экземпляр, отлит Эбраром… Гарантирую, что подлинник… всего десять экземпляров… — рассеянно слушал я объяснения продавца.
— А цена? — наконец спросил я после того, как воздействие скульптуры рассеялось из-за этого непрерывного бормотания.
Он вынул из-под скульптуры ярлык и показал мне.
Я ожидал увидеть цифру гораздо более внушительную, но и эта, во всяком случае для меня, была довольно солидной. В те годы инфляция еще не обесценила франк.
— К сожалению, у меня нет при себе таких денег.
— О, вы можете зайти и завтра.
Завтра? Для меня это было чересчур долго. Я взял такси и помчался в посольство.
— Слушай, Георгий… На этот раз просьба исключительная…
— Сколько? — уныло осведомился кассир. И, услыхав цифру, проворчал:
— Дело твое. Но имей в виду: этот аванс плюс прежний, так что ты теперь два месяца не получишь ни франка.
Но я уже писал расписку. И думал вовсе не о том, получу я или не получу зарплату в следующие два месяца, а о том, что мне предстояло получить вот-вот — об эскизе Рюда, о своей первой бронзе.
За первой последовали и другие.
Но они присоединялись к моей коллекции не сомкнутыми рядами и даже не вереницей, а поодиночке и крайне редко, через большие промежутки. Причем эти промежутки не были пассивным ожиданием, а неделями и месяцами постоянных, но — увы! — тщетных поисков.
У произведений скульптуры клиентура более ограниченная, чем у живописи, да и количество самих произведений довольно ограниченно. В парижских магазинах можно отыскать тысячи картин самого разного достоинства и много тысяч гравюр, но тот, кто вздумает коллекционировать скульптуру, мигом убедится, что ее просто-напросто нет. Во всем городе нет ни одного специального магазина для мелкой пластики, если не считать того, о котором шла речь выше, и еще двух-трех других, где торговали исключительно кичем: бронзовыми чернильницами, увенчанными орлами, филинами, восседающими на страницах раскрытой книги, пресс-папье с черепахами и прочим. В галереях и крупных антикварных магазинах лишь изредка, среди картин и стильной мебели, мелькнет, бывало, какая-нибудь бронза, случайно затесавшаяся среди другого товара и всегда или очень дорогая, или очень скверная.
Существовали, конечно, места, где можно было легко раздобыть настоящий шедевр. Музей Родена принимал заказы на бронзовые отливки с оригинальных гипсовых моделей, завещанных скульптором городу. Вдова Майоля тоже выполняла такие заказы. Дина Виерни, приятельница Майоля и модель многих его работ, держала на улице Бонапарта небольшой магазинчик, где торговала бронзой, которую завещал ей скульптор. Наконец, мадам Бурдель тоже была собственницей гипсовых моделей, с которых делала отливки.
Однако цены на эти шедевры значительно превосходили мои скромные средства. Они были приравнены к рыночному курсу и выражались семизначными цифрами, совершенно мне недоступными. Почти единственным моим шансом были те мастера, которыми снобистская мода пренебрегала и чьи произведения, по крайней мере в те годы, были не очень дороги, но попадались редко по той простой причине, что собственники не желали отдавать их за бесценок.
Когда я приехал в магазин за моей первой бронзой, хозяин сказал:
— Принадлежи эта голова не Рюду, а Бурделю, скажем, или Деспио, она стоила бы самое малое пять миллионов. А если хотите знать мое мнение, она ничуть не хуже Деспио. Наоборот. Но что делать, классика сейчас не в цене.
Да, классика была не в цене, но и найти ее было непросто. Тем не менее, когда кружишь по всему Парижу, когда постоянно ищешь, нет-нет на что-нибудь да и наткнешься. И я искал всюду — от богатых антикварных магазинов в центре до неприглядных лавчонок в предместьях. Едва приметив сквозь витрину блестящий темный предмет, я сразу нырял в лавку, и бронзовая миниатюра так завладела моим воображением, что у меня иногда даже возникали галлюцинации — бывало, вбежишь в лавку и убеждаешься, что блестящий темный предмет за стеклом — это всего лишь телефонный аппарат.