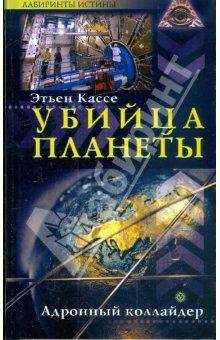Максим Кантор - В ту сторону
Мысли о необходимости возрождения империи Борис Кузин решил изложить в форме притчи. Он писал нечто, напоминающее позднего Достоевского, — «Дневник писателя» передает впечатления частной жизни, однако обобщает их до философии бытия.
То была повесть о смерти одинокого ученого. Умирая, ученый делится с миром последними заветами, выплескивает на бумагу завещание тем, кто придет за ним. парадоксально, но именно внезапная болезнь Татарникова подсказала сюжетный поворот: Кузин задумался о возрасте, о здоровье и лишний раз уверился в том, какая хрупкая вещь — жизнь человека. Не то даже важно, что внезапно умрешь, — досадно, что дело не успеешь сделать. Татарникову, вероятно, безразличен вопрос — успел он сделать в этой жизни то, что должен был сделать, или не успел. Вполне вероятно, что никаких внятных целей у Сергея Ильича не было. Однако есть такие люди, что призваны к делам.
Прихлебывая травный настой, приготовленный супругой, Кузин описывал горькие пилюли, что глотал его герой, пригвожденный к койке. Кузин потягивал отвар — действительно, горьковато, — и описание чувств профессора Голубкова, пьющего свою лекарственную цикуту, выходило само собой. Важно пережить то, что описываешь, горечь и боль невозможно имитировать, их надо действительно испытать. Некоторые места удавались настолько, что профессор откладывал перо и отдавался переживаниям. Да, говорил он себе, так и есть. Как же верно, как же больно. Профессор Голубков в его рассказе умирал, не оцененный по заслугам, в унизительной нищете. Ибо что как не нищета — будем называть вещи своими именами! — есть копеечная зарплата русского профессора. Работаешь на трех работах, и всего-то набегает тысячи три долларов, редко четыре — это что, деньги, спрошу я вас, это — деньги?
Борис Кузин, который в жизни обходился малым и был чужд стяжательства, оценивал бытие своего героя объективно — с некоторой досадой, но без слез, принимал Голубков свою судьбу. Профессор был необходим обществу — его не слушали. В сущности, Голубков хотел простых вещей. Он хотел цивилизации, демократии и комфорта. Империя Российская должна восстать из руин, оставленных большевиками, но тяжелое наследие Московского царства мешает новопетровским реформам. Профессор Голубков восклицал (в споре с оппонентами): «Что же предпочесть? Жизнь обеспеченную, в свободном государстве, или жизнь раба?» И противники терялись, не знали, что ответить, ведь все их привычки коренились именно в московском бесправии, а заглянуть глубже — так и в монгольском иге. Так повелось в этой юдоли слез, что зависим мы от темного прошлого, а светлого нового страшимся. Даже близкие не ценили Голубкова по заслугам. Что говорить о начальстве?
Родственники были заняты стяжательством, интригами, а Голубков просто трудился — как трудились на ниве просвещения его предшественники: Соловьев, Ключевский и другие великие ученые. Неблагодарный сын профессора (Кузин изобразил его директором рекламного агентства) и черствый брат его (пусть будет директор медиакомпании) отвернулись от умирающего, друзья Голубкова предали его. Именно так и бывает! Печешься о державе — и, как результат, забыт согражданами. Сын мог бы принести умирающему Голубкову денег на леченье, мог бы прийти и сказать: «Папа! Прости!» Но сын не пришел, брат не позвонил, коллеги предали, и Голубков умирал в одиночестве — с не-дописанной рукописью на столе, с недоеденным борщом в кастрюле, с недообглоданной курицей в холодильнике.
Унизительные подробности быта лишь подчеркивали величие неосуществленного замысла. Почему пенсия не позволяет нанять прислугу? Элементарная, естественная вещь — кухарка в доме; нет, никогда не знал Голубков такого комфорта. Один, всегда один. Казалось бы, люди должны вернуть тебе то, что ты дал им когда-то, так нет же — не дозовешься до их совести! Голубков вспоминал ботинки, которые покупал сыну в детстве — в ущерб покупке ботинок собственных. «Сам в старых похожу, — говорил Голубков в рассказе, — сам похожу в старых ботинках, пусть дождь, пусть протекают! Не важно, я готов носить старье, но пусть мой маленький сын имеет обувь». Понятно, что речь шла не только о ботинках. Мера ответственности перед миром, самоотречение во имя ближнего — вот что выражали ботинки в данном случае.
Ах, если бы только ботинки! Сколько таких мелочей, которые, в сущности, далеко не мелочи. Например, доклад о варварстве и цивилизации — доклад, отмеченный премиями, — отчего бы его не издать отдельной брошюрой? Отчего бы не выпустить собрание сочинений? Люди менее значимые, нежели Голубков, имели в его возрасте собрание своих сочинений — а что сделали с его трудами? Ответ очевиден: не пробил час для просвещенной империи в России, и глашатаи империи сегодня никому не нужны. В сущности, и Петр Первый остался непонятым собственным народом. Нам понятнее разбойник с ножом, чем образованный император с конституцией. Юрист-правовед, вот кто необходим державе в роли лидера. Законы, вот чего не хватает варварскому народу; говорено не раз — а поди, докажи мужику, что подлинная свобода — это разумное подчинение просвещенному начальству!
Написанное делало реальность еще более осязаемой — так поставленный диагноз делает больного еще более больным. В истории часто бывает: произойдет важное событие, ну, скажем, случится война — и сначала люди не понимают, почему они вдруг стали бегать, ползать и стрелять. Проходит время, появляются мемуары генералов- и люди видят вещи как бы заново. Ах, вот что, оказывается, с нами было! Вот с какими целями нас убивали! А мы-то, простаки, не догадались!
Кузин вспоминал, сопоставлял, оценивал события. Прошла перестройка, многие дорвались до чинов. Не всем повезло в одинаковой степени: сказывалось наследие московского царства — по-прежнему коррупция, снова местничество. Особенно остро Кузин переживал слова, которые говорит его герой в тот момент, когда узнает, что премию дали не ему, а недостойному коллеге.
«Голубков отвернулся к стене и прошептал: а на похороны он придет, на похороны мои придет?» Кузин чувствовал, что фраза удалась, он разволновался. Прошел к буфету, достал бутылку виски, подарок некоего генерала Сойки — генерал пристраивал дочку в университет и вот заехал, презентовал бутылку. Это, в сущности, мелочь, другие берут конверты с деньгами, пойми, Ирина!
— Что это за генерал такой? — спросила в тот день Ирина. — Может, он из органов?
— Какая чепуха! Он из авиации, до сих пор ездит на сборы эскадрильи в Сибирь.
— Летчик! — сказала Ирина.
— Достойный уважения человек. Я подарил ему свою брошюру о необходимости возрождения Российской империи.
— Думаю, он оценит.
— Он-то, надеюсь, оценит. — Кузин поморщился, вспомнив, как оценивал его произведения Сергей Ильич Татарников, и вернулся к письменному столу добавить пару абзацев об умирающем Голубкове.
«Голубков вспоминает о своем идейном противнике некоем Сергее Кошмарникове, плохом историке, тяжело пьющем человеке. Кошмарников пишет доносы на Голубкова, завидует его таланту. Здесь требовалось вспомнить какую-нибудь характерную деталь, и Кузин попытался оживить в памяти разговор с Сергеем Ильичем.
— Читали мои вещи?
— Не хочется говорить.
— Нет уж, скажите.
— Простите, не хочется.
— Сергей Ильич, это невежливо! Прочли, и не хотите говорить что думаете!
— Воздержусь.
— Извольте сказать! Считаете, неудачная книга?
— Простите, не хотел обидеть. Вы лучше другим чем-нибудь займитесь.
— А вы читали мою философскую прозу?
— Простите великодушно, не могу сказать.
— Извольте сказать!
— Не смог дочитать.
Кузин подумал, что буквально этот диалог он воспроизводить не станет. Он написал так.
Кошмарников спрашивает Голубкова:
— Вы мне дадите почитать свою философскую прозу?
— А вам зачем? — спрашивает Голубков. — Разве вы интересуетесь философской прозой?
— Мне очень нужно, прошу вас!
Голубков дает Кошмарникову свою книгу, а тот, надергав из книги цитат, пишет отвратительный донос в правительственную газету.
— Зачем вы это сделали? — спрашивает Голубков у негодяя.
— Не скажу! — страшным голосом кричит Кошмарников. — Воздержусь от ответа!»
Кузин перечитал эту последнюю фразу, остался доволен. Тут жена пригласила к столу: голубцы со сметаной.
6
Перед тем как Татарникову дали наркоз, к нему в палату пришел доктор Колбасов, посмотрел на Сергея Ильича сверху, из сверкающих высот. Над Сергеем Ильичем возвышалась капельница, блестела трубками и склянками; комбайн искусственного дыхания искрился никелированной сталью — и вот среди блеска приборов возникло рыжее лицо Колбасова.
— Вы как Бог с неба, — сказал Татарников слабым голосом.