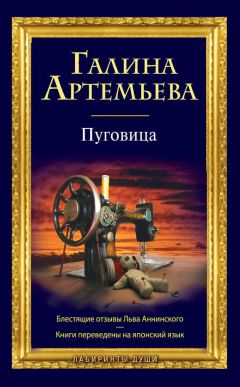Светлана Шипунова - Генеральша и её куклы
Как ни странно, я не влюбилась в Гошу.
Я вообще ни в кого ещё по–настоящему не влюблялась, если не считать одного десятиклассника по имени Лев, который мне очень нравился, когда сама я была в 6–м. Надо честно признаться, что в школе мальчики за мной не бегали. В 16 лет я все ещё была худенькой девочкой и «формами» не блистала (откуда только потом что взялось!), а им нравились почему‑то пышнотелые «тётеньки» вроде Люды Варенцовой, за которой они табуном ходили, норовя как бы случайно прижаться и потрогать. К тому же, я была отличницей, а мальчики отличниц не любят.
Впрочем, я от этого нисколько не страдала. Просто моё время страдать ещё не пришло.
К десятому классу вопрос о наступлении или ненаступлении месячных перестаёт быть актуальным, у всех все давно наступило, стало привычным, и уже не обсуждается. На повестке дня совсем другой, куда более интересный вопрос – «было или не было».
В кругу подружек разговоры только об этом, и уже две скороспелые одноклассницы, не доучившись десятый класс, выскочили замуж, одна по причине беременности, другая просто по любви и нетерпению (в основном его, а не её – он уходил в армию). И мы все мучаемся любопытством, как там наши вчерашние одноклассницы живут со своими мужьями, ведь они же с ними спят! Всю ночь! Каждую ночь! И вдруг выясняется, что иногда они занимаются «этим» и днём, когда мы ещё сидим в школе за партами. Известие об этом вызывает в наших умах большое смятение. Причина его кроется не в зависти (трудно завидовать тому, чего сам не пробовал, и каково оно – не знаешь), а в том, что нарушен некий общий для всех порядок вещей. До сих пор девочки одного возраста разом шли в школу, одновременно вступали в пионеры и в комсомол и, казалось, так же вместе, дружно должны закончить школу и лишь потом начинать новую, взрослую жизнь, про которую тоже думаешь, что она у всех будет одинаковая: сначала институт и профессия, потом - замужество и дети. А вот, оказывается, можно и наоборот: сначала замужество, а потом уж… Или даже вовсе обойтись без института, потому что женщина – это уже профессия, или во всяком случае – работа.
И – ничего, небо за землю не упало, родители не убили, и в школе как‑то быстро про этих двух девочек забыли, вычеркнули из всех журналов, будто их никогда и не было. Странно и непонятно. Главное, непонятно: хорошо или плохо, то, что они сделали – для их же собственной дальнейшей жизни?
Позже ты поймёшь, что ответ на все эти вопросы очень простой, и заключается он в том, что ничего одинакового на самом деле быть не может и не должно, особенно в том, что касается устройства твоей личной, собственной (и больше ничьей) жизни. И, следовательно, что для одной девочки – нарушение жизненных планов и крушение каких‑то там надежд, то для другой – в самый раз, нормальный и естественный ход событий.
И если одна из тех девочек к середине десятого класса стала мамой, это – её собственный выбор. А если у тебя на этот момент нет даже «мальчика», то это значит только одно – тебе уготована другая судьба. И мама с бабушкой сто раз правы, когда говорят: «ещё успеешь» или: «у тебя все впереди». Действительно, глупо, проходив десять лет в отличницах, а ведь это стоило трудов, сорваться на финише ради такого сомнительного удовольствия, как стирка пелёнок и подгузников. Нет, это не твоя судьба, и потому в положенный срок ты закончишь школу и получишь свою медаль (правда, не золотую, а серебряную, вылезет‑таки четвёрка по геометрии), и вот только тогда, может быть, и случится то, что рано или поздно случается с каждой девочкой.
…Мне было 16 лет, и, прежде, чем поступать в вуз (я все ещё колебалась между живописью и журналистикой), я должна была закончить «художку». Времени свободного стало много, и я иногда захаживала в свою школу, к старшей пионервожатой, помогала ей то стенгазету нарисовать, то сценарий сочинить для школьного вечера. Туда, в пионерскую, стал заглядывать Гоша. Сначала он заглядывал на переменах, потом не пошёл однажды на урок и проторчал все 45 минут, подавая мне то гуашь, то кисти (я как раз малевала на стене панно, что‑то космическое). Потом он пошёл меня провожать, потому что уже темнело, и мы остановились у моего проулка и долго стояли, и только тут я узнала, что меня, оказывается, давно любят. Как это – давно? Так. Уже год. То есть… Ну, да, как только пришёл в нашу школу, так сразу, чуть ли не в первый день, ну, может, и не в самый первый, а во второй или третий меня увидел и… Да как это было? Якобы я шла по коридору, на мне были белые чулочки (действительно, были у меня такие чулочки – белые, нейлоновые), и он сначала обратил внимание на эти чулочки, а потом поднял глаза и увидел меня, и тогда спросил у крутившегося рядом одноклассника:
— Слушай, что это за девочка?
— Сестра моя. Хочешь, познакомлю?
Это был мой двоюродный брат, довольно разбитной малый. Что же не познакомил? Оказывается, он, Гоша, сам не захотел. То есть он хотел познакомиться, но – сам. Только подходящего случая все не было. Целый год.
— И что же, весь этот год ты меня любил? – спросила я насмешливо, все ещё надеясь, что это какая‑то шутка.
— Да, — шёпотом сказал Гоша.
Я поняла, что он не врёт, и испугалась. Мне ещё никто не признавался в любви. Я даже не знала, как следует вести себя в момент такого признания. Должна ли я сказать ему что‑нибудь о своих ответных чувствах? Но ведь их у меня нет… Должна ли я разрешить ему меня поцеловать? Но он ведь об этом пока не просит…
Я молчала, потрясённая. Улыбалась в темноте. Все‑таки приятно узнать, что тебя любят. Но как быть, если тебе самой вовсе не нужна эта любовь? Если в твои планы не входит встречаться с этим мальчиком, который, хотя и старше тебя на год, ещё и школу‑то не закончил? Если ты сама себе не можешь ответить на вопрос: как ты к нему относишься? Сказать ему сразу: а я тебя не люблю! Язык не повернётся. Не сможешь ты ни обидеть его, ни сделать ему больно, ещё подумает, не дай Бог, что ты из‑за болезни его не хочешь… И разве не заслуживает полюбивший тебя человек хотя бы благодарности и простой человеческой дружбы?
Так мы стали «дружить», то есть — встречаться, но уже не в школе, а где‑нибудь на улице, стали гулять по нашему городку, по темноте и через какое‑то время поцеловались на скамейке у калитки одного частного домика, который я очень хорошо помню и который, должно быть, до сих пор там стоит. Этим первым поцелуем было как бы закреплено, что я – его девушка.
До этого я целовалась только один раз с одним мальчиком из нашего класса, но очень неудачно, во–первых, он не умел целоваться, а во–вторых, назавтра же всем разболтал, хотя разболтать следовало бы мне и пусть бы над ним, а не надо мной похихикали. В общем, тот случай можно было в расчёт и не брать, и тогда выходило, что первый, с кем я по–настоящему стала целоваться по вечерам, на тёмной улице, на чужой скамейке, был он, Гоша. К тому времени была уже зима, лежал снег и светила луна, я ходила в шубе, а он в коротком полупальто с меховым воротником и меховой шапке. Мне было холодно (шуба была искусственная), а он говорил, что этот мороз – не мороз, вот в Норильске, где он родился, вырос и играл в хоккей за юношескую сборную города, бывало и минус 50. Этого я представить никак не могла, но целоваться на морозе, когда губы холодные, мне нравилось.
Однажды он спросил:
— Ты читала Солженицына?
Надо сказать, я всегда не любила этот вопрос: «ты читала?..», считая его сугубо личным, почти интимным. Бывало, я даже врала: «да, читала…», лишь бы не быть уличённой в том, что чего‑то не знаю, что‑то пропустила. Но это имя – Солженицын – было мне почти незнакомо.
— Нет, не читала, — сказала я честно.
Немудрено: во времена первой новомировской публикации мы были ещё детьми, дома толстых литературных журналов не выписывали, а в школе это имя ни тогда, ни тем более после даже не произносилось. Ко времени, когда мы выросли, Солженицын был уже под запретом, а экземпляры журналов, где он печатался, успели изъять из всех библиотек.
— Я тебе принесу почитать, — сказал Гоша. – Мне Начвин дал, только он просил никому не показывать.
Борис Ефимович Начвин был сосед Гошиных родителей по дому – пожилой, одинокий, ироничный человек, благоволивший Гоше. В своё время он научил его играть в шахматы, потом – разбираться во внутреннем устройстве автомобиля (у него была старая, заезженная «Победа»), потом стал подкидывать ему разные интересные книжки. И вот, наконец, сочтя, видимо, достаточно взрослым, дал прочитать «Новый мир» пятилетней давности, который он хранил как большую ценность.
Тут надо кое‑что пояснить про дом, в котором жил Гоша. Это был один из первых в городе жилищных кооперативов, построенный заочно норильчанами (то есть деньги они внесли, а сами до поры оставались жить за Полярным кругом). Гошины родители, 30 лет оттрубившие на Норильском горно–металлургическом комбинате, поселившийся через стенку от них Начвин (про которого я сначала думала, что он работает где‑то начфином, а это оказалась фамилия) и другие бывшие норильчане, выехавшие в середине 60–х на «большую землю», жили дружно, чуть не коммуной, не особенно допуская в свой круг посторонних.