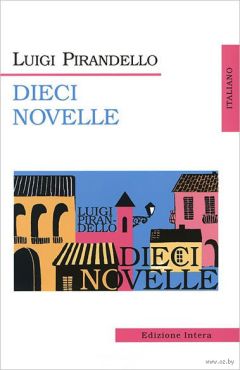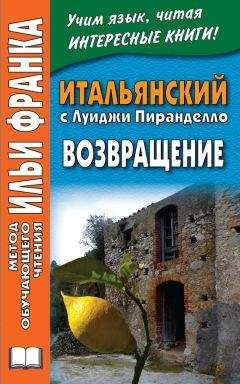Луиджи Пиранделло - Записки кинооператора Серафино Губбьо
Бедный Кавалена! Истина, судя по всему, в другом! Истина, наверное, в том, что, находясь в строгом заключении, он, сам того не желая, привык, увы, разговаривать с самим собой, то есть со злейшим врагом, какого только каждый из нас может иметь; и его охватило чувство бесполезности всего, он ощутил себя потерянным, одиноким, блуждающим в потемках, раздавленным собственной тайной и тайной окружающих вещей… Иллюзии? Надежды? К чему все это? Суета сует… И его дух, поникший, растоптанный, мало-помалу воспрянул, ему стало жалко людей, которые, в силу неведения, томятся в плену иллюзий и сами не понимают, что творят, и вот так, вхолостую, живут, любят, страдают. В чем провинилась его жена, его несчастная Нене, коль скоро она так ревнива? Он — врач, он знает, что подобная форма ревности есть проявление душевного заболевания, это разновидность безумия, прикрытого здравыми на первый взгляд рассуждениями. Типичная форма паранойи, включающая манию преследования. Да это же ясно как день: типичная, типичная! Она, его бедная Нене, дошла до того, что подозревает, будто он хочет ее убить и вдвоем с дочкой завладеть ее деньгами. Вот счастливая тогда наступит у него жизнь, без нее! Свобода, свобода — иди куда вздумается, делай что хочешь! Бедняжка Нене, она ведет себя так, потому что осознает: жизнь, которую она создала для себя и других, невыносима. Не жизнь, а удавка. Она калечит себя, бедная Нене, своим безумием, вот и думает, будто другие хотят ее покалечить, убить. Ножом — вряд ли, это сразу заметят; ее хотят убить злобой, оскорблениями. Однако она не замечает, что злоба и оскорбления — ее собственное оружие. Она выковывает его в искрах безумия и наделяет жизнью. Но ведь он врач, верно? Если он, врач, все это понимает, то разве отсюда не следует, что он должен относиться к своей бедненькой Нене как к больному человеку и понимать, что больной не несет ответственности за все то зло, которое причинил и продолжает причинять? Так отчего же он бунтует? Против кого? Ему бы сжалиться над ней, окружить ее заботой и любовью, терпеливо и покорно сносить обиды, упреки и жестокость. А ведь еще есть Луизетта. Он бросил ее в этом аду, оставил вариться в одном котле с мамашей, начисто лишившейся разума. О, прочь, прочь отсюда, пора возвращаться домой, немедленно!
Но быть может, замаскированное под жалость к жене и дочери чувство есть не что иное, как желание бежать от ненадежной, неустойчивой жизни, которая ему отныне не по вкусу? Кстати, разве у него нет права испытывать жалость к себе? Кто довел его до такого состояния? Может ли он в свои годы начать жизнь заново, оборвав все нити и лишившись средств к существованию, и тем самым доставить удовольствие жене? Нет уж, назад, назад в заточение, в тюрьму!
Он так расписал, бедолага, во всех подробностях, свои горести и страдания, которые вынужден терпеть, он так старательно демонстрирует свои несчастья — каждым шагом, взглядом, жестом, — а когда находится рядом с женой, то опасается, как бы в этом шаге, взгляде, жесте она не выискала повода для безобразной сцены. Так что, при всей испытываемой к нему жалости, не смеяться над ним невозможно.
Мужчина сорока пяти лет, доведенный до такого состояния женой, которая вдобавок беспощадно его ревнует, просто смешон! И это не единственная его беда, есть еще другая, пренеприятнейшая, безобразная: раннее облысение в результате тифозной инфекции, после которой он чудом выжил. Страдалец вынужден носить под шляпой парик. Дерзкий вид этой шляпы и выбивающихся из-под нее завитых локонов столь резко контрастируют с запуганным, хмурым и подозрительным выражением лица, что это, ей-богу, сводит на нет все его попытки выглядеть достойно и солидно и доставляет дочери бесконечные мучения.
— Нет, видите ли, уважаемый господин… как вы сказали?
— Губбьо.
— Губбьо, благодарю. Я — Кавалена, к вашим услугам.
— Кавалена, благодарю, я знаю.
— Фабрицио Кавалена. В Риме меня знают…
— …как шута!
Кавалена обернулся — лицо белее мела, рот разинут от изумления — и посмотрел на жену.
— Шут, шут, шут! — с пеной у рта повторила она.
— Нене, побойся Бога, соблюдай хотя бы… — угрожающе начал Кавалена, но внезапно осекся. Он зажмурился, сморщил лицо, сжал кулаки, как будто у него внезапно прихватило живот. — Нет, нет, все в порядке.
Это нечеловеческое усилие он совершает над собой каждый раз, сдерживается, возвращаясь к осознанию того, что он врач и поэтому должен обходиться с женой как с несчастным больным человеком.
— Вы позволите?
Он взял меня под руку и отвел в сторону.
— Это типично, типично, знаете ли?.. Бедняжка… От меня требуется столько мужества, чтобы все это вынести. Возможно, если бы не наша малышка, у меня бы его не хватило. Но довольно! Я говорил ей… этот Полак… этот Полак, благословен Господь… этот Полак! Помилуйте, разве можно, зная мое несчастье, позволять себе такие вольности? Увозить дочурку на съемки… с продажной женщиной… с актером, чья репутация… Представьте, что после этого творилось у меня дома! И вдобавок присылает эти подарки… ошейник для животинки и пятьсот лир!
Я попытался объяснить ему, по крайней мере, что Полак послал подарки и пятьсот лир без всякого злого умысла. Что? Да никакого злого умысла он, Кавалена, тут не видел, какой еще злой умысел? Напротив, он был очень доволен, просто счастлив, что все так сложилось; признателен Полаку, который разрешил его дочурке сняться в кино. Но чтобы успокоить жену, ему приходилось делать вид, будто он задет за живое, возмущен до глубины души. Я это заметил сразу. Мои уверения, что ничего, в сущности, плохого не произошло, приободрили его. Он схватил меня за руку и потащил к жене.
— Ты слыхала, слыхала?.. Ну и дела… этот господин говорит, что… Прошу вас, скажите, скажите. Я буду молчать. Я приехал вернуть подарки и пятьсот лир. Но если, как говорит этот господин, речь идет… Ну, просто ни за что оскорбить человека… грубостью ответить тому, кто даже не помышлял оскорбить и обидеть нас, поскольку считал… не знаю, не знаю… тут нет ничего такого… Прошу вас, ради Бога, скажите… скажите моей жене все то, что давеча вы так любезно объяснили мне!
Но госпожа Кавалена не дала мне и рта раскрыть, накинулась на меня, глаза — стеклянные, фосфоресцирующие, как у кошки.
— Не слушайте этого шута, лжеца, комедианта. Дочь тут ни при чем, да и оскорбление тоже. Просто он тут собирается околачиваться, тут он будет как петух в курятнике, среди женщин, без которых жить не может, артисток, как и он сам, кривляк и самовлюбленных дур. Он бесстыжий хитрец, прикрывается дочерью ценой ее репутации… да он погубить ее хочет, убивец! Вы же не понимаете, у него будет отличный предлог привозить сюда дочь! Он исключительно ради дочери…
— Ты тоже будешь приезжать! — в отчаянии воскликнул Фабрицио Кавалена. — Разве ты сейчас не со мной, не здесь?
— Я? — взревела жена. — Я? Сюда?..
— А что? — как ни в чем не бывало продолжал Кавалена и, обратившись ко мне, сказал: — Подтвердите, разве Земе здесь не бывает?
— Земе? — опешив, переспросила жена и нахмурила брови. — Кто такой Земе?
— Земе, сенатор! — воскликнул Кавалена. — Королевский сенатор, ученый с мировым именем!
— Значит, он еще больший паяц, чем ты!
— Земе, которого принимают в Квиринальском дворце? Приглашают на все званые королевские обеды? Почтеннейший сенатор Земе, слава Италии, директор обсерватории? Да постыдись ты! Уважай если не меня, то хоть гордость нации! Он ведь здесь был, правда? Ну скажите же, сударь, скажите, умоляю вас! Земе здесь был, он снимался в фильме «Небесные чудеса», ты поняла? Он, сенатор Земе! Следовательно, сюда приезжает Земе, и если Земе, ученый с мировым именем, разрешает снимать себя в фильме… значит, я тоже могу здесь бывать, могу сниматься. Но мне все равно. Больше я сюда ни ногой. Я только хочу доказать ей, что это не позорное место, куда я, якобы из грязных побуждений, хочу затащить дочь на ее погибель. Вы меня поймете, сударь, и простите, ведь я ради этого и говорю! Мне стыдно произносить такие речи перед дочерью, словно я желаю ее скомпрометировать, унизить, приведя в бесчестное место. Сделайте милость, проводите меня к Полаку, я должен вернуть эти подарки и деньги и поблагодарить его. Когда человеку выпадает несчастье иметь такую жену, ему остается только поставить на себе крест! Проводите меня к Полаку!
Но мне и здесь не повезло. Не постучавшись, я открыл дверь в «Художественную дирекцию», где сидит Полак, и увидел такое, отчего мгновенно переменилось мое настроение; я уже не мог думать о семействе Кавалена и вообще перестал понимать, что происходит.
Перед Полаком, согнувшись пополам, сидел человек и плакал, спрятав лицо в ладонях. Плакал навзрыд. Полак, заметив меня, резко поднял голову и взглядом приказал мне уйти. Я послушно закрыл дверь. Человек, рыдавший в кабинете Полака, был, без сомнения, Альдо Нути. Кавалена, его жена и дочь в недоумении смотрели на меня.