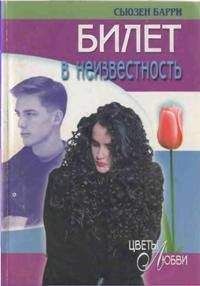Фабрис Каро - Фигурек
Теперь — я. Я весь в тревоге. Анна протягивает довольно тяжелый прямоугольный пакет, мне не по себе, я повторяю и повторяю «да зачем же, не надо было…» — и все это выглядит достаточно нелепо. Осторожно снимаю оберточную бумагу — так, чтобы она не порвалась, упаковки мама обычно сберегает «на всякий случай», мне кажется, что процесс длится уже несколько часов, но вот ему приходит конец. Это книга! Огромная потрясающая книга в переплете из дорогой ткани! «Когда опускается занавес, или Все грани театра». Авторы — Джошуа Танненбаум, Абрахам Коан-Солаль и Джекоб Коннисберг[50]. Я всерьез разволновался, по-моему, впервые в жизни мой рождественский подарок не запоздал ко мне минимум на пять-шесть лет. Перецеловываю их всех, всем-всем дарю жаркие поцелуи — и папе тоже, хотя папа, понятное дело, узнал о том, что мне подарено, тогда же, когда я сам.
Дальше — до самого ухода — держу книгу под мышкой, как маленький мальчик, который не хочет расставаться с новыми ботинками и не соглашается их положить хоть куда-нибудь. После того как брат и Анна берут свои пакеты (брату подарили свитер с капюшоном и надписью «America Winner Force» и шахматы; Анне — коробку акварели, ядовито-желтую сумочку и шоколадный набор, полученный нашими родителями от одной из наших теток; теперь Анна передарит эти конфеты своим родителям, те — двоюродному дедушке, ну и так далее, потому что ей достался один из тех вечных шоколадных наборов, которые десять раз объедут вокруг всей Франции, но так и не дождутся, чтобы их открыли)… о чем это я? Да, брат и Анна уже с подарками, а под елкой лежит еще один пакет в разноцветной обертке. Я не обращал на него особого внимания, пока мама не подняла его и не протянула мне.
— Держи, сынок, это для Тани. Жаль, что ее нет здесь, с нами. Поцелуй ее покрепче за нас за всех и помни: тебе запрещено разворачивать, пока с ней не увидишься.
Я беру пакет и вмиг совершенно скисаю — настроение мое рушится с поистине головокружительной скоростью.
76Возвращение домой. Курю сигарету за сигаретой и тупо разглядываю лежащий на столе пакет с подарком. Достаточно оказалось красного кубика в золотых звездах и веточках остролиста, чтобы настроение упало ниже плинтуса. Да уж, бывают люди более уравновешенные.
Время от времени пытаюсь взять себя в руки и наугад открываю книгу о театре. Ничего не получается: вижу одни непонятные значки и уже через две минуты оказываюсь на том же стуле, с окурком во рту, глаза в десяти сантиметрах от пакета. Нет никакого желания открыть этот пакет, на самом деле мне наплевать, что там внутри, меня добил сам по себе поступок родителей. Мало того, что из-за них меня снова стало преследовать Танино лицо — как раз тогда, когда удалось хоть на несколько часов от него освободиться, так еще и сам по себе их поступок был невыносимо печален и готовил в будущем им самим так много разочарований, что думать об этом почти мучительно… Они-то, мама с папой, уже видели себя окруженными маленькими Танями, и маленькие Тани бегали между кухонными стульями и выпрашивали чуть не со слезами поход в Диснейленд… Я близок к тому, чтобы пожалеть обо всем, обо всех этих ухищрениях ради спокойствия родителей… Лучше всегда быть одиноким, чем стать им внезапно, постоянство здесь было бы не так болезненно для близких. Постоянное одиночество когда-нибудь может подарить им иллюзию, что это осознанный выбор.
Тут до меня доходит, что я так и не познакомил своих с Жюльеном и Клер. А ведь мог бы — и это пошло бы маме с папой на пользу! Они знают, что я дружу с семейной парой, что регулярно у них ужинаю… ужинал, может быть, встреча с моими друзьями совершенно бы их успокоила. Почему, почему я этого не сделал? Может быть, потому что не чувствовал в себе силы блеснуть сразу двумя гранями — сына и друга? Мне кажется, только самые уравновешенные люди на такое способны, те, кто находит в себе силы быть всегда одними и теми же, с кем бы ни находились рядом.
Я продолжаю смотреть на подарок для Тани и думать о Клер и Жюльене. Наверное, мне их не хватает. Мне бы так хотелось разделить с ними это все: Таню, Фигурек… наконец все выложить. Но я отлично понимаю, что это было бы эгоистично, да, эгоистично и опасно. Не всем повезло иметь родителей с таким прошлым, которое само по себе защищает их сына. Тут я вдруг вспоминаю счет, и принимаюсь думать о счете, и сразу чувствую, что начинается мигрень — а чего еще ждать после вчерашней пьянки! Мне-то казалось, что все прошло…
77Я несколько раз оступаюсь, когда иду вверх по темной лестнице. Не хватает только парочки наркоманов из Фигурека, валяющихся на ступеньках, чтобы я ощутил себя в Бруклине — хотя никогда не бывал в Бруклине, но кто ж не знаком с клише.
Его дверь не выбивается из общей картины. Когда он давал мне свой адрес, я чуть было не выбросил бумажку немедля: не видел тогда причин, зачем бы мне понадобилось идти к нему. Откуда было знать, что настанет день, когда это сделается необходимо.
Стучу. Он кричит изнутри, что сегодня ничего не заказывал. Я называю себя, стараясь говорить погромче и поотчетливее, иначе до него не донеслось бы сквозь преграду, но выходит все-таки глуховато — наверное, от смущения… или от боязни, что нагрянет бригада полицейских, выскочат из-за угла телевизионщики с камерой или выглянет из своей квартиры болтливая соседка. Дверь отворяется, на пороге возникает он — в распахнутом халате на голое тело, и сразу видно, что морковка у него крошечная и что он обрезан.
— Что это за манера будить человека в восемнадцать часов…
Тем не менее он приглашает меня войти и указывает на кушетку, где можно посидеть, пока он оденется, вот только задача состоит в том, чтобы найти эту самую кушетку под грудой одежды, журналов, пустых бутылок и картонных упаковок с гордой надписью поперек: «Быстропицца у вас будет раньше, чем вы скажете слово „пицца“».
Посреди комнаты возвышается скульптура чрезвычайно дурного вкуса, она явно слеплена из папье-маше, и понять, кого она призвана изобразить — дискобола или подъемный кран, абсолютно невозможно. В конце концов я все-таки сажусь и хватаю наугад первый попавшийся журнал. На обложке оказалась фотография девушки: девушка стоит на коленях и явно колеблется, решая, какую из нескольких пипирок ей выбрать.
— Не слишком ли сильный бардак ты обнаружил у себя сегодня утром?
— Смотря по какой шкале мерить! Если по сравнению с тем, что вижу здесь и сейчас, то малость похоже…
Замечаю на противоположной стене огромный постер, горы на картинке уходят под облака: горный пейзаж — единственный глоток свежего воздуха в этом складе микробов, которых можно потрогать рукой.
— Чему обязан визитом? Неужто хочешь отдать должок?
— Нет, просто подумал: а что, если пригласить вас пойти чего-нибудь съесть и выпить?
— Ох, не получится, к сожалению. Надо ишачить. Вообще-то молодец, что пришел, а то ведь я опоздал бы: мне через четверть часа положено находиться в церкви…
78Стучу в дверь — три раза, но очень осторожно, сам едва различаю свое царапанье, возможно, в глубине души мне вовсе и не хочется, чтобы меня услышали там, внутри, так было бы куда легче. Решаю подождать десять секунд, потом уйти. Жюльен открывает дверь на седьмой секунде. Лицо его, стоило ему меня увидеть, просто просияло, он восклицает: «Какой приятный сюрприз!» — и я верю, что он искренне обрадовался моему приходу, хотя в подавляющем большинстве случаев это восклицание означает прямо противоположное тому, что человек на самом деле чувствует. Мы обнимаемся и желаем друг другу веселого Рождества. Правду сказать, как сплошь и рядом делают застенчивые люди, мы словно бы оговариваемся и хором выкрикиваем: «Роселого Веждества!»
В квартире, куда я прохожу вслед за Жюльеном, меня встречают открытия. Ощущение такое, что эта квартира — дочь той, которую я так хорошо знал. Стены те же, но все помолодело на двадцать лет. Массивный дубовый стол, занимавший прежде центр комнаты, исчез, а на его месте появился — родился, что ли, от того стола? — маленький журнальный столик цвета апельсина, добавивший помещению тридцать квадратных метров площади. Куда ни глянь — занавески. Пестрые, в красных тонах, похожие на марокканские ковры — но именно что не ковры, а занавески. Кстати, и обои, кажется, тоже другие: какие были раньше, не помню, но сомневаюсь, что такие вот, салатовые, нет, пожалуй, цвета недозревших яблок — его и встретишь разве что в детских книжках, ничего подобного в жизни не существует или, по крайней мере, до сих пор не существовало… И еще одна деталь, на первый взгляд ничего не значащая, но для меня в высшей степени символическая: нигде никаких следов коллекции. Конец эпохи. То есть вот что произошло — они решили стать другими.
— Выпить хочешь?
Я отвечаю этому почти незнакомцу, одетому по молодежной моде: «Да, и налей то же, что себе!» Вообще-то нет ничего смешнее тридцатилетнего мужчины, одетого по молодежной моде, но он смешным не выглядит. Может быть, это оттого, что он и вообще стал таким… Может быть, его старая одежда уже не выражает его истинной сути…. Может быть, жалкий старый дурак — тот, кто думает, будто жалкий старый дурак — это кто-то другой.