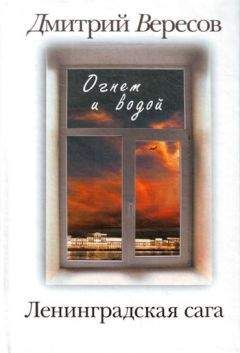Иван Клима - Час тишины
Он попросил коня у пьяного соседа. Конь был слепой на левый глаз еще со времени войны, но во всем остальном был добрый конь.
— Снегу-то, снегу сколько навалило, — расстраивался Василь Федор, — задержит нас, пожалуй. Хотелось бы, чтобы дорога была уже готова.
— Перестань, — одернула ei*o жена, — хоть на праздники дай покой людям.
— Вы ведь понимаете, — сказал Василь Федор, — это шоссе означает для нас выход в свет.
Инженер пообещал вернуться в течение трех дней, полуслепой конь лениво тронулся с места; они махали ему и смотрели вслед, пока он не исчез за первыми деревьями.
Дорога постепенно спускалась вниз; конь мерно шел по низкому снегу.
Мартин закрыл глаза и думал о том, что едет домой — там ждет его мать, большая рождественская елка, мерцают огни свечек, под елкой стоит конь-качалка… Конь мерно позвякивает колокольчиком, и сани тихо скрипят, дорога то поднимается вверх, то спускается вниз, вокруг стоит запах смолы. Из задумчивости его вдруг вырвал грохот выстрелов.
— Что такое? — спросил он вслух.
Но конь все шел, все тем же своим мерным шагом, не проявляя волнения, и это успокоило его, хотя конь, видно, не испугался потому, что был не только слеп на один глаз, но еще и глух.
Они выехали на шоссе, и конь сам остановился перед лесопилкой. Это был один-единственный дом в широком поле; вероятно, лошадка когда-нибудь возила сюда лес.
Он выпряг коня и отвел его в конюшню. Потом миновал длинный коридор и вошел в свою комнату. Прежде всего он затопил печь, затем принес воды, согрел ее в белом тазу и мылся прямо на печи — вода шипела, а он фыркал от удовольствия.
Он тщательно оделся и пошел через коридор в гости к руководителю строительства.
Дома была только хозяйка. Она сидела в кресле, поджав под себя ноги, и читала.
— Какой вы милый. — Она медленно встала и сделала несколько шагов навстречу. — Вы не сердитесь на мое приглашение? Я думала, что одному вам будет грустно в горах, среди этих людей. И мы решили с мужем собраться всем вместе — поговорим, мол, поколядуем.
— Очень мило с вашей стороны, что вы вспомнили обо мне, — поблагодарил он.
— Но произошла неприятность, — улыбнулась она, как бы сообщая нечто весьма приятное. — Мужу пришлось поехать к матери… Она прислала телеграмму. Я должна была поехать вместе с ним и только… У нас уже не было времени предупредить вас.
Она увидела его удивление и снова улыбнулась.
— Нет, это очень хорошо, что вы приехали, я здесь совсем одна и уж боялась. Здесь поговаривают, будто через границу перешли какие-то банды… Я очень боялась. Что вы так смотрите? Поужинаем вместе… Я уже все приготовила.
Она ушла в кухоньку, он бродил глазами по стенам: вышивки, фиолетовые цветы, коричневые цветы и литография на библейский сюжет, на полочке книги в холщовых переплетах — изделие провинциального переплетчика — «Бесы» и «Анна Каренина», на кухне жарится сало и тепло колышется на сонных волнах, Эрроусмит, «Португальские сонеты» и «Графиня Калиостро».
Она принесла тарелки с золотым ободком, водку налила в высокие рюмки, потом пошла переодеться, из кухни распространялись рождественские запахи. Прошлое рождество он провел в деревянном больничном бараке, доктор тогда сварил великолепный пунш, пригласил еще почтальона, его жену и двух медицинских сестер, пили, пели, были немного сентиментальны, а сестра Ванда жарила рыбу на примусе. То было первое послевоенное рождество, он немного боялся праздников, но, как ни странно, был совершенно счастлив: человек должен знать, что он ради чего-то живет, а тогда он был уверен, что нашел свой путь, нашел решение, как жить, как сопротивляться равнодушию, когда в мире возрастает снисходительность по отношению к преступлениям, а вместе с ней и беззащитность от преступников.
Она вошла в дверь с блюдами на деревянном подносе.
— Совершенно обыкновенное угощение. — На ней было вечернее платье с глубоким вырезом, в ушах поблескивали большие золотые круги, в черных волосах — золотая игла, губы намазаны толстым слоем помады — Кармен любительского спектакля.
— Удивляюсь, — сказал он, — что муж оставил вас здесь одну, такую красивую женщину.
Казалось, она ждала именно этих слов.
— Ему ничего больше не остается, ведь он давно уже мне не муж. Не может быть, чтоб вы этого не знали, — все это знают.
Он совершенно не стремился к тому, чтобы выслушивать ее излияния, и поэтому промолчал, но она все же продолжала:
— Он чужой мне человек. Мы просто договорились: я ему готовлю еду и стираю — вроде как бы компаньонка, чтоб он не чувствовал себя одиноким. А он за это меня кормит. Это для нас обоих чем-то и неудобно… Но поступаем мы так по соображениям удобства.
Она говорила очень спокойно и ела при этом — видно, подобный разговор волновал ее не больше, чем любой иной.
— Я собиралась было уже избавиться от него. Рассказала людям, что он гад. Во время войны до самой последней минуты прислуживал немцам… Но никто не позаботился, чтобы его арестовать. Нас просто-напросто послали сюда.
— Он и предавал?
— Откуда я знаю? — Она пожала плечами.
Им завладела стремительная волна отвращения.
— Разве вас это не интересовало?
— У меня нет с ним ничего общего, кроме имени.
Но заметив, что гость собирается как-то возражать, быстро добавила:
— Сегодня праздник-не будем портить себе настроение.
Конечно, решил он, ведь я же могу думать о чем-нибудь другом. По крайней мере сегодня. Столько месяцев я не был ни с одной женщиной. Он смотрел на нее и старался не думать, что скоро будет с ней спать.
— Не хотите немного попеть? — предложила она. — Я так давно не пела. Мой вообще не умеет петь. А вы любите музыку?
— Да.
— Я сходила с ума по Морису Шевалье. Скажите, у вас тоже было много идей, когда вы учились в школе? — Очевидно, это была ее излюбленная тема. Она не умела ее обойти, и разговор о прошлом требовался ей для того, чтоб оживить в себе прежние чувства. — Знаете, я хотела быть миссионеркой. Пальмы, джунгли, остров прокаженных, а в один прекрасный день привозят сына губернатора. Охотника и поэта.
Она прищурила глаза, и в ее голос вкралась новая интонация— какая-то театральность; сколько раз она уже это рассказывала, когда-то в этом была хоть какая-то прелесть мечты — она хотела любить больного сына губернатора, хотела посвятить ему свою жизнь, а потом вышла замуж за плешивого владельца строительной фирмы. У него росло брюхо, и каждое утро он читал «Словака»; умел громко смеяться, но никогда не умел развлекаться. Почему она вышла за него замуж? Она не могла бы на это ответить, не знала точно, зачем сделан был этот шаг — так пришлось, хорошая партия, мама радовалась, подружки завидовали; он купил ей сумку из крокодиловой кожи.
— Вы видите, чем все это кончилось, — она встала и подошла к окну. — Снег все падает и падает… А эти люди вокруг, о боже, что это за люди! Чего они хотят? Знаете, там, наверху, когда стали намерять землю под фабрику, ведь они пошли на землемеров с косами. — Она не дожидалась ответа. — Я рада, что вы здесь… Сегодня совершенно другой вечер. Я часто думаю о вас. Мне хочется отгадать, почему вы сюда приехали, у вас, видно, было какое-нибудь несчастье… Я думаю о вас и гадаю: несчастная любовь или какое-нибудь большое горе… Всегда, когда я вас видела, у вас была какая-то печаль в глазах. — Она выпила и становилась все сентиментальнее. Но и он тоже много выпил. Ее речь убаюкивала его и вместе с тем навевала грусть.
— Вы мне ничего не скажете?
— Знаете, я не очень разговорчив. Видно, скучный из меня гость.
— Почему же… у вас интересные глаза. Вы могли бы быть охотником и поэтом.
Она была банальной в каждом движении, в каждой фразе, иной, видно, она и не могла быть, ибо все в этой комнате было банальным: и тепло, и домашняя водка, и литографии на стене — все было обычным, домашним, посредственным— образец быта средней руки. Поэтому он даже чувствовал себя здесь как дома; голова у него мягко кружилась. Он пододвинул свой стул к ее креслу и стал рассказывать, как однажды, в начале войны, он приехал в одну деревню отмерить землю под лесопилку и там его приветствовала целая делегация. Учитель, лесник и староста приготовили угощение — молодого поросенка и бочку пива, — а потом привели его на участок и сказали: «Вот здесь, значит, будет этот самый стадион». Все получилось, как в «Ревизоре», и тамошние глупцы потом рычали от бешенства и требовали, чтоб он им заплатил за угощение.
Он так громко смеялся, рассказывая эту историю, что она с трудом понимала его слова. В лампе кончался керосин, фитиль чадил, она встала и подкрутила его; теперь в комнате светил только красный кружок горелки да падал из окна белесый отблеск снега; она возвращалась в свое кресло, но остановилась возле него в ожидании. И тогда он притянул ее к себе, серьги ее вспыхнули красным цветом — золотые круги, — она закрыла глаза. Вот видите, чем мы кончили.