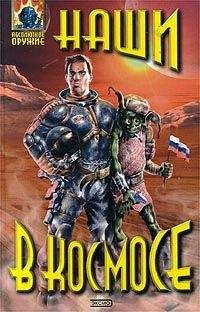Эмиль Ажар - Псевдо
Ну прямо точь-в-точь Тонтон-Макут.
— А все остальное?
— Единственно значимая вещь, Павлович, — шедевры. Я до сих пор с огромным удовлетворением перечитываю Данте, Шекспира, Толстого, Достоевского.
— А меня вы читали?
— Конечно. Стараюсь быть в курсе новинок. Я создал все это, потому что ужасно люблю литературу, музыку, живопись. Если бы не они, я бы устроил мир по-другому. И не мучайтесь вы, не заглядывайте в будущее. У меня все под контролем. Будут еще прекрасные песни. У вас способности, Ажар, но вы слишком зациклены на себе. Больше думайте О страданиях других: тут еще можно найти прекрасные книги. Нехорошо, что люди страдают зазря, мальчик мой. Счастливы зрелые колосья и сжатые хлеба. Дистанцируйтесь от себя, довольствуйтесь чужими страданиями: эпопея, Павлович, нужна эпопея. «Я» — штука интимная, ограниченная, исчерпывается слишком быстро, а человечество — кладезь сюжетов, настоящая золотая жила для писателя. Оглянитесь вокруг: еще несколько таких Чили, несколько должным образом прочувствованных ГУЛАГов, побоищ, кампаний преследования, и вы станете большим писателем, Ажар, — и, значит, люди погибли не зря.
— Я поеду жить в Китай.
— Да, в литературе у них сейчас затишье.
Он немного говорил по-английски, У датчан ужасно выразительные лица. Он налил мне заказанный виски, оставил бутылку, я подписал чек, и он ушел.
Я хотел позвонить в бюро обслуживания и точно узнать, вправду ли это был ОН, но потом плюнул: все время попадаю на кого-то другого.
Я почти закончил. Датчанин бегает от дерева к дереву и лает, потому что наверху белка. Господи, Господи, вокруг ни слова правды, кроме слова «Бог», которое ведь тоже — часть словарного запаса. Не ломай голову, Ажар, алфавит сам охраняет все ходы и выходы, он сам отличный сторож и часовой. Конечно, есть музыка, но и она на обслуге: помогает строить и жить. Есть детский смех, но он своим неведением просто разрывает сердце. Повсюду знаки, и они не обманывают, потому что все так и есть.
Бессмертные всадники галопом скачут по небесам, но они всего лишь облака, мифа нет. Под ногами потрескивают осколки религий, упавшие со старого орешника, который даже не знает, что дает одни пустые скорлупки. А он все растит их, потому что создан для и с этой целью. Умышленно и наказуемо. Дым над крышами, как дань священному огню, чтобы он грел. Птицы, пчелы и цветы для усыпления бдительности. На горизонте ни кошки, потому что разум снял все вопросы. Четко прочерчены новые дороги, чтобы идти все дальше в никуда. Катаклизмы сдерживаются, чтобы продлить удовольствие.
Принять себя, насколько хватает глаз. Принять себя вплоть до исчезновения всякой видимости мира, любого чужого страдания. Или уж принять себя до самосожжения — и освободить палату в психиатрической лечебнице.
— Поль, у тебя снова глаза поехали!
— Ничего страшного, милая, это просто самосожжение. Не знаю, был ли я побежден, или все это от трусости, подчинения, смирения, «выздоровления», словом, — но я готов принять себя как карикатуру и чтобы стать наконец себе подобным, стать себе братом. Набросок в ожидании резинки и совсем другого автора. Мы сможем, выражаясь вульгарно, любить друг друга, и никто не удивится этому избытку плоских чувств: любовь у карикатур еще допустима, ведь им разрешено преувеличивать.
Она ласково, без литературного стыда погладила меня по волосам:
— Правда. Мы даже сможем жить счастливо, потому что карикатуры нереальны.
— И сможем говорить о народном органе, не боясь обвинений в литературной посредственности, ведь карикатурам все прощается.
— И солнце наконец сможет светить, не заботясь об оригинальности…
Я быстро пошарил в карманах. Я чуть было не забыл по привычке, однако в карманах проклевывалась огромная надежда. Я вырезал ее накануне утром, 24 января 1976 года, — отмечаю здесь этот исторический день, в который, может быть, начнется какое-то зарождение понимания, — из американской газеты, которую читаю, потому что это все-таки иностранный язык. Надежда была на первой странице.
— Послушай, Анни. И если ты думаешь, что я не выздоровел или что у меня новый приступ, читай сама: «До сегодняшнего дня ученые думали, что знают, почему солнце светит. Но недавние открытия заставили все пересмотреть. Причина явления остается неизвестной, но, по докладам английских и советских ученых, СОЛНЦЕ БЬЕТСЯ И ТРЕПЕЩЕТ, КАК ОГРОМНОЕ СЕРДЦЕ…»
Она посмотрела на меня тревожно, и я знал: она подумала, что у меня новый приступ. Но она не осмелилась ничего сказать, чтобы не ранить надежду, потому что слова стреляют без жалости, когда видят свою любимую дичь.
Доктор Христиансен явился мне в последний раз, когда на кагорском вокзале я готовился сесть в поезд на Париж. Скорый поезд уже стоял у перрона, и тут я увидел, как он выходит ко мне из датского тумана, и если он был не так отчетлив, как всегда, то это потому, что ускорение сердечного ритма в минуты внезапной паники всегда немного туманит зрение — даже у тех, кто симулирует с максимальной степенью убедительности, чтобы не попасться еще раз. Я посторонился, пропуская отряд СС, но, видимо, просто по старой памяти. Я понимал, что мой инквизитор получил у карательных органов новые инструкции и пришел убедиться, что меня снова можно пускать в обращение, как фальшивую монету, как видимость человека, как бы вроде нечто, безопасное для себя и для других, ведь ему лучше всех известно, что их так называемое у психиатров выздоровление на самом деле только тщательное, послушное и показное сокрытие симптомов. Без видимых причин, потому что поезд еще не тронулся и, следовательно, не мог никого раздавить, в его грозной неподвижности встала вся тревожная неизбежность Анны Карениной, готовой кинуться под колеса, но, возможно, это была лишь литературная реминисценция. Христиансен, которого я решил дерзко называть так, без слова «доктор», потому что доктор мне больше не нужен, встал передо мной в той нарочно приятной и спокойной позе, которая должна успокаивать. Он схватил меня за горло. Однако дьявольского в нем не было ничего, он улыбался, держа руки в карманах серого пальто с вельветовым воротником, у него была русая борода, которая никому ничего плохого не сделала, очки без оправы и глаза с чуть припухшими веками, он был немного похож на Вольтера и немного на Верлена, но я знал, что он до отказа набит литературными аллюзиями и впервые с момента нашего знакомства скрывал под каракулевой шапкой тот факт, что был лысым.
Я пошел ему навстречу с протянутой рукой, для придания его внезапному появлению на кагорском вокзале более естественного вида.
— Я принес вам поразительную новость, писатель Ажар, — заявил он мне. — Пиночет вот-вот будет отправлен в отставку, а Плюща уже освободили. Вы победили, писатель Ажар. Плющ прибыл в Париж, его встречали цветами и математиками. Браво.
— Не знал, что у меня такие длинные руки, — сказал я скромно — так полагалось.
— Вы победили, воитель Ажар, и можете гордиться делом своих рук.
— Тем более что книга еще не опубликована, — сказал я, чувствуя подвох.
— Пиночет узнал ее содержание через свою тайную полицию и запаниковал. Он хочет бежать. А КГБ, оно повсюду, и, узнав, что ваша мощная книга должна вот-вот выйти, и не сумев подчинить вас себе, несмотря на курс химической обработки, который они вам проделали в Копенгагене, они спешно освободили Плюща… триумфатор Ажар!
— Сею при любом ветре, — сказал я иронически, потому что ирония остается хорошей гарантией умственного здоровья.
Из-за доктора Христиансена показался раввин Шмулевич с белыми глазами. Его не было, и то, что я его не видел, окончательно доказывало, что все симптомы у меня исчезли.
— Сколько я вам должен, доктор? — спросил я, потому что ему полагались авторские права.
— Не обороняйтесь, верующий Ажар. Доказательство налицо: Плющ на свободе, Пиночет едва держится, в Аргентине перестали убивать, в Ливане — братская дружба, ваша книга смогла облегчить огромное человеческое горе. Давайте пишите, вас ждут миллионы угнетенных. Спасите их, освободите, сделайте из них еще порцию литературы, лауреат Ажар. Мало вылечиться самому, надо вылечить все человечество… Пишите!
— Это будет означать, что у меня прослеживаются тенденции к мессианству, реформаторству и шизоидности, доктор. Ничего не поделаешь. Мой исследователь с уважением посмотрел на меня: он знал, что я твердо намерен захватить поезд 8.45, — другого не было, а этот ждал на вокзале, потому что Христос запаздывал и надо научиться ждать.
Но гениальный искатель все же сделал еще одну попытку, ведь он знал все уловки и понимал, что большинство так называемых нормальных людей на самом деле — просто хорошие симулянты.
— Браво, Ажар, человек с обнаженной совестью! Вы доказали всесилие нашего народного органа. Он сдвигает горы, распахивает тюрьмы, исполняет желания, осушает слезы, бинтует раны, исцеляет прокаженных, жрет дерьмо, лижет задницы, целует сапоги, командует «пли!», стреляет не целясь, взрывает города, благословляет толпы, насилует вдов, убивает сирот, плодит ужасы, гладит собак, восстанавливает руины, спасает мир, льет кровь, превращает пустыни в сады, просвещает мир, снимает Иисуса с креста, спускает Жанну с костра, скрипит зубами, рвет на себе волосы, делает харакири, убивает невинных, расстреливает заложников, режет свои жертвы, добивает раненых, — даст кто-нибудь, наконец, ему воды, — говорит мой отец! Полный вперед, писателишка Ажар! Пишите себе помаленьку! Думайте о миллионах страждущих, прикиньте тиражи! Хватайте свою святую авторучку, спасайте, освобождайте, кормите, разгнетайте, пишите! Еще немного литературы! И еще! И еще! И еще! Да здравствует еще, да здравствуют чернила! Давайте! Летите! Да здравствует музочка! Не делайте вид, что отрицаете великую литературу — счастье, справедливость и спасение, созданную Толстым и всеми прочими спасителями рода человеческого, спасатель Ажар! Самурай Ажар! Байярд Ажар! Дерьмоносец Ажар! Не думайте, что вы мелковаты, — нет понятия малых величин, когда речь идет о человеческом величии… исполин Ажар!