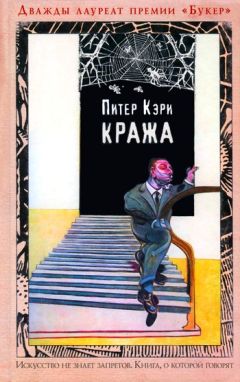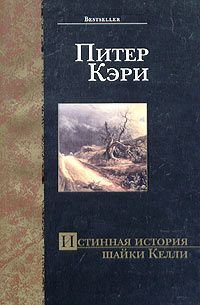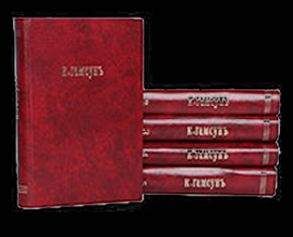Питер Кэри - Моя жизнь как фальшивка
– Как?
– Не надо, Микс! Зачем ты меня вынуждаешь?
– Как?
– Ножом, увы.
– Куда?
– В горло.
– Она перерезала себе горло?
– Прости, Микс.
– Почему же все мне лгали? Почему говорили, что она утонула в машине? Это же моя мать, черт побери!
– Кто, по-твоему, сказал тебе это?
– Все говорили! – крикнула я. Я злилась все больше. Стукнула стаканом так громко, что все едоки в этом убогом ресторанчике обернулись.
– Дорогая, не устраивай сцену. Очень тебя прошу. Хочешь – пойдем, прогуляемся.
– Я не имею ни малейшего желания прогуливаться.
– Кто тебе рассказал, Микс? Бедный старина Бычок?
– Не помню, кто. Я всегда это знала.
– Подумай, малышка Микс: с какой стати люди стали бы тебе лгать?
– Напротив, это очень похоже на моего жалкого папочку. Смерть так пугала его.
– Нет, дорогая, его нельзя назвать трусом, хотя он, в самом деле, слабоват был на похоронах.
– У него духу не хватило сказать мне правду.
– Микс, он же думал, что ты знаешь правду. Он застал тебя возле матери. Она упала около стола, ты выползла и схватила ее за руку, весь подол твоего белого кружевного платьица был в крови. Ужас. Вполне естественно, что ты все забыла. А я даже стихи об этом написал: «Кровавый мак».
Я поверила Слейтеру – не из-за стихов про кровавый мак, а потому что смутные очертания той сцены проступили в памяти, как детский кошмар. Жуткое до обморока ощущение.
Слейтер следил за мной; обычно яркие глаза омрачились печалью.
– Не надо было тебе рассказывать, – произнес он.
Но я могла думать только об одном: как несправедлива была моя ненависть к Слейтеру! Когда я поднялась с места, шумный ресторан затих. Мне было все равно.
Присев на корточки перед великим соблазнителем, я взяла его руку и поднесла к губам.
– Простите, – сказала я. – Я была к вам несправедлива.
И прижалась щекой к его ладони.
– Перестань, Микс! – попросил он. – Все смотрят.
– Мне насрать.
– А мне – нет.
Не помню, как он расплатился – хотя, разумеется, нам принесли счет. Не помню, где мы бродили – где-то у реки, там еще стояла величественная старая мечеть. Потом мы миновали поле для игры в крикет и знаменитый клуб, который англичане прозвали «Пятнистая собака», поскольку в числе первых членов были и цветные, например, султан Абдул-Салад [64].
По улице Джалан-раджа, где стояла «Пятнистая собака», мы шли теперь как добрые товарищи, объединенные страшным воспоминанием, которое так глубоко проникло в душу, что горечь его никогда не рассеется.
– Знаешь, Микс, годами я лелеял довольно-таки жалкую иллюзию, будто Малайзия – мой дом. Я даже распорядился в завещании рассеять мой прах в Южно-Китайском море у берегов Кота-Бару. На самом-то деле я тут ни души не знаю. Стоило поглядеть на старого безумца Чабба, и я понял, как это глупо. Пусть меня похоронят на Хайгейте [65], мне там будет очень даже хорошо. Правда, женщины здесь очень красивы, не правда ли? Хотелось бы мне влюбиться еще разок напоследок. По этой части я, пожалуй, был не так уж плох. Жить я не умел.
– Наверное, это и есть жизнь.
– Нет, это не жизнь.
Мы свернули на Бату-роуд, прошли по Джалан-Кэмпбелл, мимо вывесок, которые теперь, тринадцать лет спустя, сделались такими знакомыми: приемная врача с фотографиями геморроидальных шишек, копи кедай [66], два ателье и, конечно же, ремонт велосипедов. Здесь Слейтер остановился и достал из кармана пухлый конверт, а затем и ручку.
– Деньги на костюм, – пояснил он. – Жаль, мы уедем и не увидим, как принарядится старый ханжа. Боюсь, в хорошем костюме он совсем психом покажется.
Осуществлению плана помешали глухие жалюзи на двери: не было даже щели, чтобы просунуть конверт.
– Можно послать чек, – предложила я.
Не отвечая, Слейтер схватил меня за руку и увлек в переулок, а оттуда – в тупик со стоячей водой и подозрительными запахами.
– Давай поручим это кому-нибудь в отеле?
– Ни в коем случае. – Он уверенно пробирался в лабиринте проулков, а потом остановился и придержал меня за плечо. Мы стояли в проходе шириной каких-нибудь три фута. Слейтер выбрал освещенное окно.
– Вон там.
– Как вы определили?
Этажом выше загорелось еще одно окно, и в нем, словно высвеченная прожектором на сцене, предстала молодая женщина лет двадцати. Не китаянка и не малайка – ее можно было бы принять за индианку, но не с юга: кожа очень светлая. Огромные глаза, пухлые губы – она была поразительно, до боли прекрасна.
Слейтер сильно сжал мне плечо – чересчур сильно.
– Это она, – сказал он.
– Кто?
– Она, – повторил он. – Черт побери! Девушка изучала свое отражение в стекле.
– Это Нуссетта! – прошептал Слейтер.
Я почти не прислушивалась. Мне стало невыносимо грустно еще и потому, что я поняла: утром я уеду, так и не увидев заветные стихи.
– Ее дочь, – пояснил Слейтер. – Ты только погляди на нее, Микс. Значит, был ребенок?
– Это дочь Нуссетты?
– Ш-ш! Смотри! Господи, это она. Вылитая.
Девушка села расчесываться, а мы оба, стоя бок о бок в грязном узком проулке, любовались ею, пока она не задернула шторы, оставив нас в темноте.
На Джалан-Кэмпбелл мы сели в такси. Ехали молча. Про деньги Слейтер, видимо, забыл. Он был бледен, измучен, сражен наповал. Мы распрощались в фойе – условились, что в шесть утра встречаемся на завтраке, а часом позже едем в аэропорт.
25
Перед сном я попыталась осмыслить услышанное: выходит, я неверно представляла себе начало собственной жизни, я была крещена в крови, воспитана в тайнах и недомолвках, вот почему я стала тем, кто я есть.
Но белое детское платьице, залитое материнской кровью, по правде сказать, пугало не больше, чем выдуманные мною самой ужасы. Как бы ни повлияло на мою жизнь неверное представление о Джоне Слейтере, результат меня устраивал. Я бродила по разным кривым дорожкам, но в итоге набрела на «Бесплодную землю», все равно – и я увидела, как рушатся все законы, и в головокружительных разрывах, в ослепительных зияниях проступает неведомая мне дивная и страшная гармония. Этой поэзией я жила, над ней ломала голову, вглядывалась в эту загадку, сдирала с поверхности струпья, чтобы разглядеть коралловый риф. Само собой, стихи мне и прежде читать доводилось, но к такому я не была готова, и как бы я, ненавидя Джона Слейтера, ни старалась разоблачить претенциозность его поэзии, добравшись до «Бесплодной земли», я распознала истину и тайну. И теперь у меня не было желания что-то изменить в прошлом.
Пожалуй, более всего в тот вечер меня поразило разоблачение сексуальных пристрастий моего отца. Вот что меня разбудило посреди ночи. Не зря Слейтер предостерегал – напрасно я полезла в родительскую спальню. Даже после трех больших порций скотча тревожные картины кружились в голове. Час за часом, постепенно свыкаясь, я соединяла Бычка с мужчинами из числа наших знакомых. Я подбирала ему пару. Бычок и Сквайр – что из этого получится? А вот он слился в объятиях с садовником – папины усы с одной стороны, щетинистый подбородок Уилки – с другой. Впрочем, теперь уже я не узнаю всей правды. Интересно, Бычок молился в церкви, чтобы Господь его простил? Закончив акт, считал ли его животным, грязным? Нет, такого я ему не желала. Пусть себе подымается на холм с блондинистым мальчиком-актером, как в рассказе Слейтера. Пусть вместе гладят лошадку, и лорд Вуд-Дугласс просунет руку, только что гладившую конский бок, между ног своего юного спутника.
Когда задним числом желаешь счастья покойнику, в глубине души печешься вовсе не о нем. У меня, как и у папочки, есть свой секрет.
Я обмолвилась, что избегаю секса. Если громко заявить об этом, да еще по возможности изуродовать себя, люди поверят. Однако – к счастью или несчастью – это не вся правда. Прежде мои склонности казались мне уникальными и, пожалуй, извращенными, но теперь я поняла, что и в этом я – дочь своего отца.
Нет, я отнюдь не распутница. Живу я, словно монах в келье, посреди беспорядка: рукописи, кошачий корм, наполнитель для кошачьего туалета, газ в плите, шиллинг в счетчике. Но я вовсе не кроткая овечка – кроткой меня никто бы не назвал.
Я предупредила Слейтера насчет ревнивой кошки, однако на самом деле тайной моей жизни – вот уже более четверти века – была Аннабель. Мы познакомились в гнусной закрытой школе, куда меня услали, когда Бычок слетел с катушек. Годами, пока там не появилась Аннабель, я неистовствовала в неукротимой ярости. Училки со мной не справлялись. Не будь я достопочтенной Сарой Вуд-Дугласс, меня бы давно отчислили, поскольку я с самого начала вела себя скверно, а когда в школу поступила Аннабель, считалась уже безнадежной. Ей было пятнадцать, когда мы впервые встретились, и уже тогда ослепительна: очень бледная кожа, а волосы – волнистые и совсем черные, широкий рот, миндалевидные темные, лукавые глаза. Я влюбилась в первую же неделю нового семестра, увидев, как Аннабель играет в теннис. Маленькая, субтильная, но в ней было столько изящества и столько огня, она негромко вскрикивала каждый раз, ударяя по мячу. Господи боже. Разумеется, она и не думала завести меня. Она-то не была дурной девчонкой, а потому мне пришлось нелегко, пока я сумела привлечь ее внимание и пока Аннабель поняла, как сильно я нравлюсь ей. Вообще-то я терпением не отличаюсь, но Аннабель не оставила мне выбора. С того дня, как я потеряла от нее голову, и до первого поцелуя прошел целый год – прекрасный год мучительного томления и почти незаметных побед.